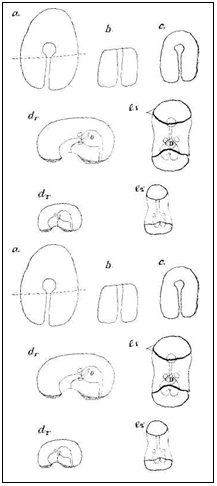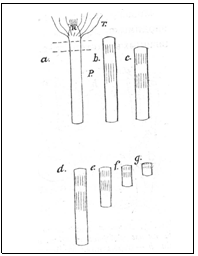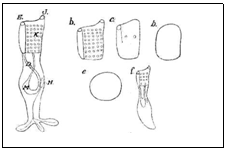|
Текст отсканирован и распознан в РНБ. Техническая редакция осуществлена А.В.Домашенко. Принята современная орфография, сохранена авторская пунктуация (даже тогда, когда это явно противоречит современной норме) и типы используемых шрифтов. Отмечены устаревшие глагольные формы и явные опечатки в Вопросах философии и психологии (помечены С.Ч.). Сохранена пагинация (без сохранения распределения по строкам – исключение границы страниц). Рисунки вставлены в обтекающий текст, их размер и положение на странице (совпадающей со страницей в оригинале) могут быть изменены. Общая редакция С.В.Чебанова. Работа выполнена в рамках гранта RO1 RR07801-01 Национального института здоровья США.
Вопросы философии и психологии, 1909, кн. 98 (III) с. 341-392, кн. 99 (IV), с. 523-573.
Вл. Карпов
Витализм и задачи научной биологии в вопросе о жизни.
Die Arbeitsteilung der Wissenschaften bríngte es mit sich, dass die Naturwissenschaften sich nur die Erforschung der kausalen Beziehungen zum Ziel gesteckt haben. Die teleologische Betrachtungsweise kann anerkanntermassen bei vorsichtiger kritischer Anwendung auch in ihnen von bedeutendem heuristischem Werte für die kausale Erforschung sein, wenngleich sie bei unkritischer Verwendung zu voreiligen Vermutungen verleiten kann... Insofern der Naturforscher nebenbei auch Mensch und als Mensch mehr oder weniger Philosoph ist. kann auch er sich der finalen Naturbetrachtung gar nicht entziehen, obwohl sie ihm als Naturforscher nicht Ziel sondern höchstens heuristische Mittel sein darf.
Eduard von Hartmann [1]) (Problem des Lebens, p. 422, 1906.).
ВВEДEHИE.
Всякий, кто вступает в соприкосновение с биологическими науками, изучая их или самостоятельно работая в их области, должен рано или поздно натолкнуться на основной вопрос биологии: что такое жизнь? Важность этого вопроса понятна; ведь помимо громадного теоретического интереса, разрешение загадки жизни сулит человечеству многое: возможность овладеть течением жизненных процессов, вмешиваться в них, направлять их по нашему желанию, одним словом, поставить на прочный фундамент две наиболее важных для человеческого благосостояния группы наук – медицинские и сельскохозяйственные. Полного разрешения вопроса о жизни мы в настоящее время не имеем, хотя число фактов и законностей, относящихся к живым существам, растет не по дням, а по часам, и сотни исследователей всех стран работают над их установлением. Но, как было всегда, мысль человеческая стремится перешагнуть за грань известного и предвосхитить будущее. Если мы сейчас не решили вопроса о жизни, мы пытаемся сказать, по крайней мере, в каком направлении он будет решен. Существует ли в живых телах особая «жизненная сила», или они отличаются от тел так называемой мертвой природы лишь большей сложностью физических и химических процессов? И, если существование жизненной силы вероятно, какова, приблизительно, её природа? Решение вопроса о жизни в такой постановке, т.е. вопроса о направлении, в каком он должен быть решен, давалось прежде, дается и теперь. Отказаться от него трудно, почти невозможно: как всякий мыслящий человек я должен решить для себя вопрос: «что я такое?», как работник в области биологических наук я должен знать, куда направлять мне курс моей ладьи, чтобы не потерпеть нечаянного крушения. И рамки, в которые укладываются наши чаяния, давным-давно уже заготовлены. Кто дошел до вопроса о сущности жизни, стоит на перекрестке двух проторенных дорог: пойдешь направо будешь виталистом, пойдешь влево – механистом. Немного подальше каждая из дорог разделяется на несколько тропинок, но это уже второстепенное дело, прежде всего: вправо или влево. Ни одна из этих дорог не зарастает окончательно, но число идущих по той или другой колеблется. Вчера еще длинная вереница шла влево и едва один-другой вправо, сегодня курс изменился, всякий хочет идти вправо, идущие другой дорогой подвергаются насмешкам, их называют слепыми, отсталыми, применяя те же эпитеты, которые получали в свое время их единомышленники. В настоящее время мы переживаем как раз такую правостороннюю волну. «Предмет вражды и насмешки, как может быть ни разу еще не было в истории науки, новый курс под знаменем идеи развития, победоносно вышел из борьбы», пишет один из глашатаев нового направления в биологии [2]). Действительно, ни для кого не тайна, что современная биология, в лице её «молодой школы», находится всецело под знаком витализма. Представим себе человека, который силой вещей приведен к перекрестку. Что может заставить его сделать выбор между двумя противоположными научными направлениями? Что может заставить ученого, шедшего долгое время по одному пути, отречься от убеждений, которые он исповедовал, и перейти в лагерь противников? Вопросы эти в наше время вполне уместны, и я позволю себе остановиться немного над их выяснением. Конечно, прежде всего решающей инстанцией являются данные биологических наук: анатомии, гистологии, физиологии, эмбриологии, механики развития, учения об эволюции, и их сопоставление с данными и законами точных наук: механики, физики и химии. Сущность дела, если выразить коротко, заключалась до сих пор в возможности подстановки физико-химического ряда ряду биологическому. Кто считает такое предприятие осуществимым теперь или в будущем, тем самым высказывается за «механическое понимание» жизни. Но ни одна из поименованных наук, доставляющих материал для решения, не может считаться законченной; они все продолжают развиваться, обогащаясь новыми фактами, новыми законами. По временам та или другая переживает период особенно плодотворной работы, выдвигаясь далеко вперед, как, например, физиология в середине XIX века, гистология в конце его, как современная нам физика. Науки, подобно живым существам по теории де Фриза, переживают периоды мутации. Такое усиленное развитие выдвигает каждый раз новые точки зрения, открывает новые перспективы и для сопредельных наук. Отсюда делается совершенно понятным и законным колебание курса в вопросе о жизни. Так, например, механистическое воззрение второй половины XIX века в глазах новейшего историка витализма (Дриша) находит себе полное объяснение: 1) в появлении теории Дарвина, 2) в установлении физического закона сохранения энергии, 3) в начавшемся исследовании тонкого строения живых существ; приблизительно также смотрит на дело другой автор противоположного лагеря (Брейниг). Недавно возникшая наука экспериментальная эмбриология значительно способствовала торжеству современного витализма, открывши в живых существах новый и неожиданный ряд законностей. Она доставила Дришу первое и основное из его доказательств витализма, к которому уже с течением времени были подобраны другие. Но не одни данные естествознания определяют выбор между механизмом и витализмом. Как ни относиться к этому факту, самого факта отрицать нельзя. Тот груз, который окончательно склоняет чашку весов, приносится сплошь и рядом естествоиспытателем извне. Во всяком человеке, живущем сознательной жизнью, есть стремление к выработке известного мировоззрения, к «цельному знанию», как говорил Вл. Соловьев. Такое цельное знание есть синтез науки, философии и религии, всего, что определяет духовный облик личности. Еще недавно, в эпоху господства материализма, наука провозглашалась главной составной частью цельного знания, определявшей все остальное, до религии включительно. С тех пор, за какие-нибудь 25 лет, положение радикально изменилось. Во второй половине XIX века, когда волна материализма достигла высшей точки, настоящая философия была в загоне, ей интересовались только немногие специалисты; широкие круги и естествоиспытатели в особенности относились к ней с пренебрежением. Они отдыхали от Гегеля, недавнего кумира, с именем которого связалось понятие о высшем, кульминационном пункте философской спекуляции. Пренебрежение к философии было настолько велико, что оставалась в тени даже колоссальная фигура Шопенгауэра – философа, с которым естествознание могло бы жить в полном мире. Но уже в начале последней четверти века замечается поворот, и первый, за кого ухватывается жаждущая философии мысль, был философ-естествоиспытатель Кант. «Назад к Канту» сделалось лозунгом времени. Труден только первый шаг, и раз он был сделан, движение философской мысли стало развертываться все шире, вновь покоряя мир. Система, вернее метафизика, великого Канта имеет ту особенность, что на ней, как на гребне скалы, нельзя стоять долго и, – как это было после Канта, в начале XIX века, – так и теперь философская мысль раздробилась на множество оттенков с явной наклонностью к идеализму. Возрождение философии не могло не отразиться на естествознании. И первыми плодами философских занятий естествоиспытателей явились попытки применить теорию познания к образованию естественнонаучных понятий. Физики, химики, физиологи стали снабжать свои книги философскими введениями, разъясняя значение тех или иных научных понятий, устанавливая границы наук и их отношений к общему мировоззрению, иногда, оставляя свои лаборатории и микроскопы, писали философские трактаты (Оствальд, Мах, Дриш, Ферворн и многие др.). Рассуждения о том, что такое причина и действие, какой смысл надо придавать понятно силы и закона, сделались модой. И постепенно, под прикрытием гносеологических умствований, в естествознание начала проникать настоящая натурфилософия. Особенно резкий поворот, полный разрыв с недавним прошлым произвела та группа ученых, которая не побоялась ввести в объяснение природы понятие цели, как действующего принципа – те много раз осмеянные и, казалось, окончательно изгнанные из науки causae finales, над которыми изощрял свое остроумие еще Вольтер. Вместе с понятием действующей цели, вполне естественно было признать существование особого субстрата, носителя целей, т. е. самостоятельного психического принципа – души. И этот шаг был сделан. Если прежде душа считалась чем-то подлежащим объяснению с естественнонаучной точки зрения, теперь она вводится как объяснение естественнонаучных фактов. Само собой разумеется, такая постановка дела должна была вызывать и вызывала протесты: категориальное значение цели и законность введения психического в объяснение природы является и с чисто философской точки зрения вопросом спорным и далеко не решенным. И вот, как противовес философскому дуализму в его различных модификациях, с новой силой развивается его вечный противник – монизм. Под знаменем монизма собирается и большинство материалистически настроенных естествоиспытателей, с тех пор как материализм, не выдержав философской критики, перестал существовать как самостоятельная догма. Те же ученые, которые не решаются примкнуть ни к тому, ни к другому направлению и желают во чтобы то ни стало избежать метафизики, ищут прибежища в лагере позитивизма. Мало-помалу спор о специальных научных вопросах выносится на более широкую арену и становится частью более общей и глубокой борьбы мировоззрений. Это с полной отчетливостью сознается и высказывается многими современными биологами: достаточно сравнить публичные лекции мониста Геккеля и его антипода Рейнке. Борьба мировоззрений, идущая с особой резкостью в известных кругах естествоиспытателей, есть факт. Мы не будем останавливаться подробнее на причинах борьбы, тем более входить в оценку борющихся сторон, укажем только на один момент, часто упускаемый из виду. Корни того или иного мировоззрения заложены слишком глубоко, чтобы их можно было легко уничтожить правильно построенными силлогизмами. Они тесно связаны со всей душевной жизнью человека, его темпераментом, характером, его унаследованными и благоприобретенными свойствами. Совокупность психических проявлений, то, что называют душой человека, не есть случайная мозаика, а живой и цельный организм, стремящийся сохранить свое равновесие и установить самочувствие на возможно высокой точке. Он достигает этого самыми различными средствами нередко наперекор логике, наперекор, очевидности. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», эта фраза Пушкина выражает несомненный психологически факт. И с ним приходится считаться даже в области науки. Целый ряд психологических исследований выясняет нам, за последние годы, значение индивидуальности и темперамента в процессах человеческого творчества; дальнейшая разработка этой крайне интересной области поможет, вероятно, объяснить и те непримиримые противоречия между людьми науки, которые перестают удивлять нас только в силу привычки. Раз мы примем это в соображение, для нас будет вполне ясно, что в выборе между механизмом или витализмом общее мировоззрение ученого может играть большую роль. Вопрос о действующем начале жизни, её развитии и происхождении слишком тесно связан с общим философским направлением, чтобы им легко можно было поступиться. «Мы можем намеченные глубокие противоположности миросозерцания наших дней различать как идеализм и материализм», говорит неовиталист Рейнке. «Они борются между собой как свет с тьмой, и мы можем, поэтому говорить о дневном воззрении в противоположность ночному, как это делает философ Фехнер, хотя и в другом смысле» [3]). Такое положение дел значительно осложняет специально биологический вопрос, перенося его на совершенно иную почву. В виду коренной противоположности мировоззрений противники в большинстве случаев не понимают и не хотят понять друг друга – они говорят на разных языках. Поэтому в литературе мы редко встретим действительно научный спор по вопросу о жизни; полемика возникает скорее по причинам личного характера. Обыкновенно виталисты и механисты просто поучают или проповедуют для известного круга слушателей, характеризуя противоположную сторону не в особенно лестных выражениях. _____________ В нижеследующем я попытаюсь представить некоторые соображения для выяснения вопроса о том направлении, в котором должна разрабатываться проблема жизни в научной биологии. Философское обоснование витализма или механизма здесь не имеется в виду: внутри своей области наука обязана оставаться на почве эмпирического реализма – в этом согласны все, – а перевести её результаты на язык любой философской системы для лиц компетентных не составит труда. Это не значит, конечно, что философия для естествоиспытателя не нужна. Она необходима уже для того, чтобы точнее отграничить угол, в котором ему приходится работать, и избежать столь обычной иллюзии считать свою часть за целое.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. Из двух противоположных воззрений на сущность жизни виталистическое начинает в последнее время брать верх. Несомненно во всяком случае, что оно перешло от защиты к нападению и, по убеждению его сторонников, одержало победу. Разобравшись в том, что представляет из себя современный витализм или «неовитализм», как его окрестили противники, мы ясно представим положение дел на поле сражения. Но не следует думать, что неовитализм представляет из себя единую и цельную догму, разрабатываемую какой-нибудь определенной школой, – наоборот, мы имеем ряд отдельных вождей, из которых каждый ведет кампанию против механизма за свой страх и риск, иногда сближаясь, иногда расходясь со своим соседом. Характеризовать витализм, значит характеризовать его главнейших представителей, а такими могут быть признаны Ганс Дриш, Иоганн Рейнке и недавно выступивший с большим успехом Август Паули. Из числа философов, входящих в более тесное общение с естествознанием, витализм защищают Эд. фон Гартманн и французский мыслитель Анри Бергсон. Сущность развиваемых ими учений и критические замечания по их поводу составят предмет первой части настоящей работы. I. Ганс Дриш не только самый талантливый защитник витализма, но и вообще, может быть,самая крупная и оригинальная фигура на горизонте современной биологии. В его произведениях выступают все достоинства и недостатки нового 6иологического направления в необыкновенно резких, подчас утрированных чертах. Нелишнее отметить, что Дриш до самого последнего времени не принадлежал к числу представителей официальной науки и работал все время как свободный ученый.[4]) Выступив на научное поприще в начале 90-х годов, Дриш посвятил себя работам по экспериментальной 6иологии – механике развития, как назвал Вильгельм Ру эту новую, созидавшуюся дисциплину. Её характерной особенностью была планомерная постановка опытов наряду с детальным логическим анализом всех наблюдавшихся явлений. Теория и опыт развивались здесь рука об руку в тесной связи: без теоретического толкования результаты экспериментов над развитием животных не могли иметь никакого значения в виду крайней сложности условий и противоречивости результатов. Такое поле деятельности как нельзя более соответствовало способностям молодого ученого и наряду с прекрасными экспериментальными работами в скором времени стали появляться его труды по общим вопросам. Методика биологии, её место в ряду прочих наук, общая теория развития животных, наконец анализ основных явлений жизни и их истолкование – таковы темы его трудов, следовавших друг за другом на протяжении 15 лет. В 1893 году появилось теоретическое исследование о задачах и методе биологии «Die Biologie als selbständige Grundwissenschaft», в 1894 «Analytische Theorie der organischen Entwickelung», в 1896 «Maschinentheorie des Lebens», в 1899 «Die Lokalisation der morphogenetischer Vorgänge», в 1901 «Die organischen Regulationen», в 1903 «Die Seele als elementarer Naturfaktor», в 1904 «Naturbegriffe und Natururteile», в 1905 г. «Vitalismus als Geschichte und als Lehre» – систематическая сводка главнейших доказательств витализма. Параллельно с этим расширялось философское образование: Шопенгауэр, Кант, Гегель, Аристотель, Мах постепенно входили в состав теоретического кругозора, расширяя и углубляя прирожденную спекулятивную способность автора. В последних трудах Дриш поднимается перед читателем во весь рост; он считает уже возможным подводить итоги своей деятельности. И мы можем, думается мне, смотреть на истекший период деятельности Дриша как на законченное целое, переходящее в область истории – дальше идти в этом направлении некуда. Главная сила Дриша заключается в его способности к абстрактному мышлению. Мы встречаем у него поразительное изощрение в логических тонкостях, разделениях, определениях, которое напоминает до известной степени схоластиков. Живи он в средние века, его почитатели наверное выразили бы свое восхищение перед ним, назвавши его doctor subtilis. Но Дриш не только изощрен, он глубок, как бывает глубок только немецкий философ, и, может быть, не менее справедливо было бы назвать его doctor profundus. В этом отношении он похож немного на Канта, влияние которого отражается не только в его концепциях – признании априорных основ естествознания – но и на его стиле. Читают Дриша немногие, и вряд ли многие понимают. Чтобы следить за его тонким анализом, выраженном таким тяжеловесным, подчас прямо лапидарным, слогом, надо самому пройти известную школу. Вероятно, поэтому, сколько-нибудь основательной критики Дриша не появлялось, в большинстве случаев она бьет мимо цели. Дриш один из первых открыто разорвал с прошлым умышленно резким отношением к Дарвинизму. «Входить еще в рассмотрение претензии опровергнутой так называемой Дарвиновской теории, было бы оскорблением читателя», писал он в 1893 году (Biologie р. 31) Стремление установить генеалогическое древо организмов имеет в глазах Дриша очень мало цены. «Наша современная филогения может доставить только галерею предков», его же идеал заключается в создании действительно научной теоретической биологии в противовес ранее существовавшей эмпирической. Их различие заключается в логической обработке понятий. Обычная эмпирическая наука пользуется общими понятиями, носящими собирательный характер (Kollektivbegriffe); связывая их между собой, она получает законы. Таким путем, например, выводится в механике закон рычага, наклонной плоскости, Кеплеровы законы. Теоретическое познание идет иной дорогой; оно прежде всего разлагает наблюдаемые явления на последние элементы и из полученных путем анализа элементарных понятий создает особые синтетические понятия – «искусственные понятия» (Kunstbegriffe). При помощи таких искусственных понятий строится научная теория, В механике – пользуясь приведенными примерами – последними элементами является скорость (v), масса (m); живая сила (mv2) или величина движения (mv) есть искусственные понятия. Законы представляют уравнения, в которые входят составленные таким способом искусственные понятия. Таков должен быть и путь биологии, при котором она может хоть немного приблизиться к идеалу – точным наукам. Пользуясь коллективными понятиями эмпирической биологии, как то: позвоночное, протист, клетка, дробление, секреция, сокращение, мы никогда не придем к цели. Поэтому и изучение эволюции имеет только одно значение – открытие законов изменения форм, в противном случае, как и все историческое, оно научного интереса не представляет. С такими предпосылками приступает Дриш к изучению явления жизни. Его основной тезис можно формулировать следующим образом: среди процессов происходящих в живых существах, есть такие, которые нельзя свести на явления природы, известные из прочих наук, они имеют самостоятельную законность (eigengesetzlich), автономны. Соответственно этому биология не подчинена физике и химии, а координирована им, является такой же автономной наукой, как и последняя. Раз нам удастся доказать самостоятельную законность каких-либо жизненных процессов, невозможность объяснить их машинообразно – мы тем самым докажем правоту витализма и можем ни мало не беспокоиться голословными утверждениями механистов. Таких «доказательств» Дриш представляет три и тем, по собственному выражению, утверждает витализм на незыблемых основаниях. Конечно, не все процессы, развивающиеся в живых телах, витальны: целый ряд их объясним физически или химически. Сюда относятся даже такие данные, как состояние агрегации протоплазмы, её тонкая структура. Подобные процессы могут быть исключены из области специфически жизненного, «элиминированы». Механисты говорят, что постепенно удастся элиминировать все проявления жизни, так что на долю витализма ничего не останется, но такое воззрение просто «проявление догматического материализма». Доказательства витализма, данные Дришем, бесспорно самая серьезная попытка во всей виталистической литературе прошлого и настоящего. На них следует остановиться подробнее. Из всех трех доказательств наибольший интерес представляет первое, материалы для которого Дриш заимствовал из собственных экспериментальных работ в области «Restitutionslehre», т.е. регуляции восстановления формы. Оно касается «типичности места», в котором разыгрываются жизненные явления или, как выражает это иначе Дриш, «локализации морфогенетических процессов», и излагается им подробно в сочинении под таким же названием. Факты, лежащие в его основе, можно разделить на три ряда. Первый из них относится к дробящимся яйцам иглокожих (морских ежей и звезд), т. е. к самым ранним стадиям развития.
2. Бластулу морского ежа, имеющую вид пузырька, мы можем разрезать в любом направлении на части, и каждая из них, если только она не очень мала, дает начало целому организму. 3. Разрезая гаструлу морской звезды, в которой уже намечены три отдела кишки, на три участка (участок с передней, средней и задней кишкой), мы увидим, что из каждого участка развивается целый нормальный организм, только пропорционально уменьшенный (рис. 1).
Рис. 1. Стадии развития морской звезды. (Asterias glaсialis). а – контур гаструлы, горизонтальная линия обозначает направление разреза; b – объект непосредственно после операции; с – он же, после того как восстановил эктодерму и первичную кишку; d1, e1 – дальнейшая стадия развития (т. наз. бипиннария) из нормальной гаструлы (а), d1 сбоку, e1 снизу; d2, с2 – тоже от разрезанной гаструлы (е). Рисунок схематизирован, но пропорциональность сохранена. (Из «Vitalismus» Дриша).
Второй ряд фактов почерпнут Дришем из опытов с регенерацией гидроидного полипа tubularia, (рис. 2). Отрезая у гидроида головку с венчиком щупалец, мы найдем, что новая головка образуется очень быстро, через 18 часов. Она не вырастает, а получается путем перестройки участка ствола, лежащего под отрезанной головкой. Первые стадии перестройки намечаются в виде двух красных колец, охватывающих ствол – это зачатки двух рядов щупалец. В каком бы месте мы ни стали перерезать ствол, на известном расстоянии от разреза закладываются зачатки щупалец; если оставшийся кусочек ствола очень мал, кольца становятся пропорционально тоньше. Третий ряд фактов дают опыты над асцидией clavellina, животным, организованным сравнительно высоко (рис. 3).Тело асцидии состоит из трех частей, при чем передняя образует жаберную коробку, пронизанную отверстиями, через которые циркулирует вода. Если отрезать коробку, она перестраивается, редуцирует все свои органы и превращается в круглый клеточный комок, а затем этот шар дает начало целой новой асцидии. Разрезая коробку на части, можно опять-таки получить целую, но пропорционально уменьшенную асцидию. Таковы факты, которые Дриш подвергает анализу. Он вводит сначала два определения: каждую часть развивающегося целого, построенную из одинаковых клеток, он называет элементарным органом, процесс, в силу которого возникает такой орган, элементарным процессом. Проследим всю дальнейшую судьбу какого-либо элементарного органа, напр. эктодермы, т. е. перечислим все, что из него образуется; эту обычную судьбу мы можем назвать проспективным значение органа. Но ведь эксперименты показывают, что при изменении нормального хода развития элементарный орган может дать то, чего в нормальном развитии не дает, как, например, передняя кишка гаструлы дает и среднюю, и заднюю, иначе говоря, его возможная судьба отличается от обычной. Таким образом кроме проспективного значения каждому органу присуща проспективная потенция, понимая под этим термином совокупность возможных направлений развития, свойственных данному органу. Познакомимся еще с одним термином из ряда многих, вводимых Дришем. Образование, которое состоит из равнозначных частей, т. е. имеющих равную проспективную потенцию, Дриш называет равнопотенциальной системой. Такими являются гидроид тyбyляpия, жаберная коробка клавеллины. Если же притом каждая из частей дает целое в нормальных пропорциях, т.е. гармоничное целое (как и происходит в указанных случаях), то подобную систему можно назвать гармонически-равнопотенциальной системой. После такого анализа результаты произведенных экспериментов можно выразить в логически строгой форме.
Рис. 3. Асцидия клавеллина и восстановление ее из жаберной коробки, а – схема асцидии; b – отрезанная жаберная коробка; с, е – постепенное превращение ее в клеточный шар; f – асцидия, развившаяся из шара. (Из „Vitalismus" Дриша). Возьмем любую из частей, дающих в дальнейшем развитии целое: один из бластомеров, отрезок тубуллярии, жаберную коробку клавеллины. В каждой из этих систем следует найти какой-нибудь punctum fixum; мы можем взять за него, например, край разреза; по отношению к такому punctum fixum каждый из элементов регенерирующегося куска занимает определенное положение. Из элемента может выйти любая часть целого, так как ведь проспективная потенция их всех одинакова, но на деле, в течение регенерации выходит какая-нибудь определенная часть: он получает определенное прос- пективное значение. И ясно, что расстояние данного элемента от punctum fixum, иначе место. занимаемое им в целом, существенно важно для определения его проспективного значения. Мы можем это выразить следующим образом: проспективное значение элемента (S) есть функция его расстояния от punctum fixum (а) или его места в целом, т.е. S = f(a). Одного этого однако недостаточно. Опыты показывают, что величина отрезанного куска определяет собой величину целого: маленький кусочек бластулы морского ежа дает и маленький плютеус. Следовательно, проспективное значение части (S) зависит не только от её положения в пространстве, но и от абсолютной величины системы. Называя ее g, мы скажем S = f (а, g). И этого мало. Следует принять во внимание еще третий фактор, зависящий не от характера операции, а от природы самого объекта. Он определяет гармоничное отношение частей к целому, особенную проспективную потенцию каждого из элементарных органов, наконец, видовую специфичность объекта. Дриш называет его буквой Е. В противоположность двум ранее рассмотренным, переменным факторам, Е является постоянной величиной. Полный результат анализа можно выразить формулой: S=f(a,g,E). Термины а и g совершенно ясны, но что такое Е? Первое предположение, которое приходит в голову таково: Е представляет из себя «краткое выражение физико-химической структуры, тектоники, машины, – понимая это слово в широком значении – т. е. многообразия, располагающего в типический порядок многочисленные физические и химические субстанции и силы» [5]). Так по всей вероятности представил бы себе дело механист. Но позволительно ли представлять величину Е подобным образом? Здесь мы приходим к центральному пункту доказательства витализма. Если бы развитие шло единственным, раз навсегда определенным путем, говорить Дриш, мы могли бы считать Е за выражение машинности (Machinerie). Но этого нет; эксперименты показывают, что малая часть системы может производить целое; каждый из бластомеров морского ежа, каждый кусочек тубулярии или клавеллины может, в зависимости от разреза, произвести все остальное. Для этого ведь «надо бесконечное множество машин, лежащих бесконечно близко, на дифференциал, друг от друга». И этого мало, кроме бесконечного множества машин нормальной величины, надо представить себе «бесконечное множество других, бесконечно различной величины». Понятие машинности сводится в данном случае к явному абсурду. Таким образом, заключает Дриш, «величина Е не может быть каким-либо физико-химическим» многообразием, состоящим из ряда смежных частей (in einem Nebeneinander). Она природный фактор sui generis; она выступает на ряду с известным из физики и химии как новая элементарная особливость». Назовем величину Е энтелехией, наполняя старый Аристотелевский термин новым содержанием. Существование энтелехии доказывает автономии жизненных процессов, доказывает витализм. Это первое доказательство является главным; на выработку его Дриш затратил несколько лет и впервые формулировал его в 1899 г. В 1896 году Дриш еще склонялся к отвергаемой им теперь машинной теории жизни. Второе доказательство гораздо проще и короче: оно основывается на фактах развитии сложных равнопотенциальных частей. Возьмем для примера лист всем известной бегонии. Кусочек листа может дать начало целому растению с корнями, стволом, листьями. Если рассматривать его как машину, то, рассуждая логически, мы должны предположить машину такого сорта, которая могла бы последовательно, раз за разом, делиться и все-таки оставаться целой. Здесь опять никакое «экстенсивное многообразие» делу помочь не может, и то, что проявляет себя в качестве действующего агента, можно назвать только энтелехией. Третье доказательство почерпнуто Дришем из анализа движений живого существа. Оно подробно развито в книге «Die Seele als elementarer Naturfaktor». Данные для доказательств доставляет, во-первых, анализ «поступков» (Handlung), во-вторых, результаты экспериментов над центральной нервной системой. Анализируя поступки человека, как они известны нам из обыденной жизни, мы легко увидим, что особенность каждого поступка определена предшествовавшим опытом, что она, выражаясь научным языком, «протекает на основании исторического базиса реакции» (historische Reaktionsbasis). Это отличает организм от машины фонографа: в последнем реакция определена раз навсегда предшествовавшей историей, в организме же история определяет не реакцию, а базис реакции. Далее, поступки вызываются крайне разнообразными раздражениями, которые могут разнообразно комбинироваться между собой. И сами поступки состоят из крайне разнообразных реакций организма, также образующих самые различные сочетания. Но при этом существует определенное соотношение (Zuordnung) между особым характером сочетаний в раздражении и особым характером сочетаний ответа; мы можем вести речь об «индивидуальности соотношения». И вот «историческое основание реакции» и «индивидуальный характер соотношении» равным образом не объяснимы с машинной точки зрения. Дриш приводит известный пример, как незначительное изменение звуков речи, одной буквы даже, может произвести страшный эффект: «твой отец тяжело заболел» и «мой отец тяжело заболел». С другой стороны один и тот же эффект произведут фразы: «твой отец умер», «dein Vater ist gestorben», «your father is dead» для человека, понимающего три языка. «То, что определяет реакцию» в поступках, не машина, но род «энтелехии»; назовем ее «психоидом», чтобы оставить термин душа, Psyche, для чистой психологии. Само собой разумеется, что психофизический параллелизм при такой постановке дела, должен быть отвергнут, и Дриш переходит на сторону защитников взаимодействия души и тела, Буссе и Гартманна. Данные, заимствованные из экспериментов над мозговой корой, заключаются в возможности функционального замещения удаленных, частей мозга другими. Опыты над животными показывают, что выпадение той или иной функции, получающееся при удалении двигательного или чувствующего участка мозговой коры, может впоследствии исчезать, и утраченная способность до известной степени восстановляться. В силу этого центральная нервная система является в функциональном отношении, «гармонически эквипотенциальной системой», и к ней в полной мере приложимо первое доказательство, если в нем заменить слово «форма» функцией. ___________________________ Итак, путем строгого логического анализа точно установленных данных Дриш приходит к признанию в живых телах специфически жизненного начала – энтелехии. Но что такое энтелехия? Это не жизненная сила старых авторов, не душа, не вещество, это – абстрактное научное понятие, Kunstbegriff. И это все? Вероятно, не один читатель Дриша испытывал странное чувство: как будто он в течение анализа постепенно отрывался от действительности и теперь начинает витать в мире бесплотных и, чего доброго, бесплодных, абстракций. Что приобрел он? Не предлагают ли ему камень вместо хлеба? Но для того, чтобы понять все значение правильно построенного абстрактного понятия, увидеть в нем действительный ответ, необходимо познакомиться с теорией наук Дриша. Она составляет предмет особой книги «Naturbegriffe und Natururteile» и изложена вкратце в «Vitalismus». В логически построенном наукоучении энтелехия занимает вполне определенное место. Задачей науки является по Дришу «упорядочение действительности, полное и без противоречий» (vollständige widersprachlose Ordnung des Wirklichen). Обратите внимание на то, что в этом определении практическая цель науки оставлена в стороне, ни слова о возможности овладеть действительностью, предвидеть будущее, изменять настоящее (как в знаменитом определении Генриха Герца, или в определении современного биолога Леба). Требование экономии в научном мышлении, выставленное Махом, также не находит себе места, хотя на родство с Махом в других отношениях указывает сам Дриш. Собственно говоря, определение науки, даваемое Дришем, можно с полным правом приложить и к метафизике. «Действительное» имеет двоякое происхождение: с одной стороны оно «дано», с другой оно «мое произведение». Мое участие состоит в образовании понятий и суждений, превращающих непосредственно данное в переработанную «расширенную действительность». Высшую ступень этой переработки образует наука; для неё esse=concipi: быть, значит быть познаваему (так у В.К. – С. Ч.) путем понятий. Существуют понятия, созданные исключительно мною, без участия данного, это – категории; существуют также суждения, которые независимы от количества предшествовавшего опыта – априорные. Становясь в этом отношении на Кантовскую точку зрения, Дриш, так же как и Кант, считает, возможным построить «чистое естествознание», состоящее из априорных суждений, связывающих необходимым образом априорные категориальные понятия. Детальное развитее этой мысли мы найдем в «Naturbegriffe und Natururteile», которая является таким образом, как бы современной переработкой «Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft», Канта. Конструируя известным образом понятие «вещи», мы связываем с ней понятие «свойств», путем применения категории причинности. Для науки имеют особое значение «постоянные свойства» вещей или «константы». Мы встречаем их обыкновенно в физике и химии, но они должны существовать и в биологии. Константами физики являются, например, удельная теплоемкость, электропроводность, механический эквивалент теплоты; их можно выразить числами. Химические константы более сложны и относительны, «они высказывают нечто об отношении специфического А к специфическому B, по отношению к третьему специфическому С». Относительные константы можно выразить только мысленно, целым положением. Так называемое «объяснение» явлений совершается именно при помощи констант, хотя, вообще говоря, всякое объяснение «есть в высокой степени тавтология и самообман». Теперь легко можно понять и место энтелехии в научном здании: энтелехия есть биологическая константа, «интенсивное мноrоо6разие высшего рода». Как фактор или элемент науки она есть нечто простое, неразложимое, хотя выразить ее можно только путем ряда положений. Энтелехии можно применить и для объяснения жизни: «она объясняет не больше, хотя и не меньше, любой другой константы, например, специфической теплоемкости». Дриш останавливается далее на отношении энтелехии к обоим основным законам энергии, которые в его теории науки являются, конечно, «положениями чистого естествознания», т.е. априорными. Анализ (подробности которого читатель найдет в вышеупомянутых трудах Дриша) показывает, что учение об энтелехии законам энергии не противоречит, да иначе и быть не может, «так как с этими положениями ничто не может стоять в противоречии». Но, может быть, сама энтелехия представляет из себя особый вид энергии? Ведь Оствальд, например, считает возможным признавать психическое за энергию. Ничто не мешает, по мнению Дриша, говорить об энергии энтелехии, причисляя ее к «скрытой» или «мнимой» энергии (как в свое время Герц вводил понятие «скрытой массы»). «Это ничему не вредит, но не приносит и никакой пользы». Но во всяком случае определить точнее отношение энтелехии к энергии необходимо, так как разница между живыми и мертвыми телами начинается только тогда, когда мы начинаем говорить об энергии. Энтелехия должна так или иначе вмешиваться в поток энергии, проходящий через живое существо, и её задача регулировать или компенсировать разницу потенциалов, на подобие того, как электрический потенциал может компенсировать потенциал притяжения. Здесь энтелехия проявляет себя как «элементарный фактор природы». На этом можно остановиться в изложении идей Дриша. Если усвоить себе его теоретико-познавательные взгляды, недоумение, вызываемое на первых порах учением об энтелехии, исчезает; в стройной системе научного знания витализм находит себе определенное и удобное место. Но, конечно, чтобы вполне проникнуться этими идеями, требуется известная философская подготовка и, главным образом, изучение Кантовской философии. Кант и Шопенгауэр дают ключ к пониманию всего учения Дриша. От Канта он заимствовал учение об априорных положениях естествознания, налагающее особый отпечаток на всю систему витализма Дриша, от Канта и Шопенгауэра учение об автономности отдельных научных дисциплин. В словах Канта: «каждая наука представляет из себя систему; ее не следует трактовать как надстройку или часть другого здания, но как целое в себе» (Kritik der Urteilskraft II Theil § 68) — мы находим программу автономии биологии, первого шага на пути к витализму. Правда, в дальнейшем развитии Дриш принимает не всего Канта, он становится в оппозицию «Критике способности суждения» по вопросу о значении цели в объяснении природы и старается доказать, что Кант был скрытым виталистом. Как известно, Кант считал телеологию, привлечение целей для объяснения явлений природы вообще и живых существ в частности, только регулятивным принципом, а не конститутивным: дело происходит так, как если бы в природе были цели, но цели нельзя вводить в объяснение ряда явлений, рассматривать их как действующие причины. С этим именно и не хочет согласиться Дриш; как и большинство современных виталистов, он ставит принцип цели на одну доску с принципом причинности, делает его категорией. Свое виталистическое учение Дриш прямо называет «динамической телеологией». Сущность аргументация Дриша против Канта сводится к следующему. Кант допускает для человека, для его поступков телеологическую закономерность, но он причисляет также человека к природе, ergo он признает телеологию для известных проявлений её, отчего же не сделать шаг дальше и не распространить этот «особенный вид причинности» на все организмы. Я не буду останавливаться на разборе этого аргумента, который, по всей вероятности, всяким последовательным механистом будет отнесен в разряд паралогизмов, и обращусь к биологической стороне учения Дриша. Попытаемся свести в одно все положительное, что можно найти у Дриша об энтелехии. В старину был обычай излагать результаты ученых наблюдений в виде анаграмм, изречений или символических знаков, помещая их на заглавном листе книги или в конце; подражая этому, Дриш мог бы выражать главнейшие фактические результаты своего анализа в виде ученой загадки. Своеобразный, несколько таинственный стиль «высказываний» Дриша прекрасно гармонирует с такой формой. Вот в каком виде ее можно было бы выразить, пользуясь буквальными выражениями Дриша, конечно, с соответственным изменением местоимений (ср. Vitalismus р. 242 и след.).
Загадка.
Я – в расширенном смысле действительный элементарный агент природы. Меня знают только в соединении с материальным, хотя я и не свойство материи. Хотеть представить меня каким-либо образом нельзя. Вопрос о месте моего нахождения – праздный. Я могу делиться, но при этом остаюсь целым. Я могу пользоваться факторами внешнего мира, чтобы производить и поддерживать то, что нужно мне; у меня есть первичное знание и воля, не основанные на опыте. Факторы внешнего мира могут ограничивать меня, я могу болеть и умирать. Откуда и каким путем я произошла, я не знаю, знаю только, что Аристотель первый открыл меня, и Дриш основательным образом доказал мое существование. Что я такое? (Ответ: энтелехия. Пояснять дальше излишне, ибо «всякое объяснение есть в высокой степени тавтология и самообман».) _______________________
Но как бы мы ни относились к содержанию понятия энтелехии, нельзя не удивляться стройности и прозрачности логического анализа Дриша. С формальной точки зрения его можно считать безупречным: результат, к которому он пришел, вытекает из основных посылок с полной необходимостью, тут не о чем спорить. Дриш доказывает, что жизненные процессы в их совокупности есть процессы sui generis, имеющие свою самостоятельную законность, что в физике и химии объяснения для них не находится, и что организм не машина – более точно и убедительно доказать этого нельзя. Извлекая, далее, из жизненных процессов все таинственное, не поддающееся дальнейшему анализу, он соединяет это в одно понятие, одну константу, энтелехии. Правда, название это может вызвать возражения, но ведь не в названии дело. Дриш сам считает свои труды первым настоящим доказательством витализма; прежде было одно чаяние, порывание к свету, мысль бродила ощупью, здесь же дана строгая система умозаключений, опирающихся на точно установленные экспериментальные данные. Найдется ли у защитников механизма что-нибудь подобное? В этом можно сомневаться. Тем не менее и в трудах Дриша найдутся слабые, уязвимые места, точки опоры для критики. Во-первых, вся система в целом, как и все направление мышления Дриша, носит чересчур формальный, абстрактный характер. Это своего рода чудо техники, как в свое время была Эйфелева башня, которым можно восторгаться, но с которым не знаешь хорошо, что делать. В самом деле, что же должно делать естествознание с энтелехией, – intensive Mannigfaltigkeit – спрашивать о месте нахождения которой праздное дело и которая недоступна количественной оценке? Может ли такой Kunstbegriff вообще что-нибудь значить для естествоиспытателя? Философский ум Дриша не позволяет смешивать психологическое с биологическим и вводить его в естествознание, так как объект психологии, «моя душа» лежит вне пространства. Для других виталистов, как мы увидим, в этом отношении рамок не существует, и они спасаются в «психическое» всякий раз, как это представляется выгодным. Дриш этого не делает, предпочитая оставаться при абстрактном понятии, «хотеть представить которое» немыслимо. Очевидно, необходимо переработать это понятие, может быть, расчленить или изменить, одним словом подвергнуть основные данные новым операциям, результаты которых были бы пригодны не для одного «наукоучения», а и для лаборатории. Как рабочая гипотеза энтелехия вряд ли может иметь значение. Можно пожалеть, что приемы и дух точных наук теоретической физики, или «естественной философии», как ее называют англичане, остался чуждым Дришу. Он пользуется, например, термином функция и выражает результаты анализа в форме, как бы, уравнения – но в каком чисто формальном виде! Между тем, если биологии суждено сделаться когда-нибудь точной наукой, во что верит и Дриш, то вряд ли это может осуществиться без помощи математического анализа. Если же вступить на эту почву, то поневоле придется пожертвовать аристотелевской биологией, как в свое время пришлось оставить его физику. Во-вторых, – как это ни странно на первый взгляд – на выработку воззрений Дриша большое влияние оказало господствовавшее механистическое воззрение и в частности «машинная теория» жизни, которую одно время разделял он сам. Не то чтобы упомянутые воззрения вошли в состав его системы, нет, но система отлилась и определилась в своих главных направлениях как противовес им. Постановка вопросов наметила и характер ответов. Механисты уверяли, что физикой и химией можно объяснить жизнь, что биология является наукой подчиненной первым двум, – Дриш утверждает противоположное: отрицая подчиненность биологии, он устанавливает её равноправие, ставит ее на одну доску с физикой и химией. Механисты говорили: живое существо есть машина, Дриш направляет все усилия доказать противоположное и выдвигает на сцену специфический агент, которого конечно в машине нет. В постановке вопросов он продолжает стоять на одной почве с противниками, он облекает вопрос в форму обычной альтернативы, не допуская возможности чего-либо третьего. Эти замечания требуют пояснения, но так как они относятся не только к Дришу, но и к другим виталистам, затрагивая узел современной биологии, то удобнее будет остановиться на них немного далее, а пока перейти к изложению взглядов других виталистов.
II.
Почти в том же направлены, что и Дриш, разрабатывает идею витализма и Иоганн Рейнке, профессор ботаники кильского университета. На этом поприще он выступил в конце 90-х годов и с тех пор неустанно проповедует недостаточность механистического мировоззрения в специальных статьях, и в объемистых книгах наполовину научного, наполовину философского характера, а в последнее время в ряде лекций, обращенных к широкой публике[6]). Он является одним из главных противников Геккеля и старается насколько возможно парализовать вредное действие его монизма, этого «Nachtansicht» современной эпохи. Какие бы тонкие физические или философские понятия он ни объяснял (а о философии Рейнке говорит охотно и много), он выражает их всегда ясным и простым языком; в этом сказывается опытность старого профессора, знающего свою аудиторию и ее силы. Логические тонкости и хитросплетения, в которых так свободно чувствует себя Дриш, чужды Рейнке, и в решительную минуту он предпочитает апеллировать к здравому смыслу, указывать, что иным способом он себе представить дело не может. И однако по существу он идет той же дорогой, как и Дриш – путем логического анализа и выработки правильных научных понятии, не связывая однако свой анализ с какими-либо специальными научными данными, как Дриш. Новейшие воззрения Рейнке на сущность жизненных процессов резюмированы им чрезвычайно ясно и последовательно в его естественнонаучных лекциях (Naturwissenschaftliche Vorträge. Н. I – 4. 1908[7]). Вообще, эти лекции можно рекомендовать каждому, кто захотел бы составить себе понятие о мировоззрении Рейнке в целом. Рейнке не признает себя виталистом: старинное понятие vis vitalis, с которым он связывает представление о витализме, не привлекает его симпатии. Во многих местах он дает себе название «умеренного механиста», хотя область механического недостаточна, по его мнению, для понимания живых существ и должна быть дополнена. Так как эти дополнения оказываются настолько же далекими от механизма, как и учение Дриша, и идут в разрез с ходячим представлением о механизме, то Рейнке, не взирая на его собственные заявления, считают одним из вождей неовитализма. Что такое сила? спрашивает прежде всего Рейнке и определяет ее как способность вызывать явления. Это определение шире обычного механического определения, так как включает в себя и форму тел, обусловливающую ряд явлений, и психические процессы – оно почти приближается к понятию причины. Понятие силы более широко, чем понятие энергии, которая представляет из себя только способность производить работу и является, таким образом, одной из сил. Энергия подчиняется принципу сохранения, она не исчезает и не образуется вновь, сила может исчезать, например, светопреломляющая сила исландского шпата исчезает, когда кристалл растворяют в соляной кислоте. Энергия есть понятие количественное, сила – качественное. Целый ряд сил определяет направление какого-либо движения, сюда относится способность кристалла преломлять луч света, раздвоять [так у В.К. – С.Ч.] его, сюда же относится расположение железнодорожных рельс, определяющих направление движения поезда. Это силы, зависящие от формы материальной системы, расположения её частей – Formkräfte. В механизмах или машинах, созданных рукой человека, мы можем отличать силы двоякого рода: во-первых, силу как энергию, на счет которой машина производит известное количество работы, во-вторых силу как форму, определяющую собой направление, в котором освобождается энергия, производя нужный эффект. Целому ряду разнообразных механизмов мы доставляем запас энергии одинаковым образом, скручивая, например, упругую стальную пружину, входящую в их состав; но эта накопленная энергия, расходуясь, вызывает различный эффект: в одном механизме приводит в движение стрелку, показывающую время, в другом звучит мелодией Штраусовского вальса, в третьем, наконец, приводит в движение целое, как это бывает в игрушечных паровозах. Везде пути освобождения энергии предписаны формой, системными условиями или системными силами, сама энергия играет роль раба. Эти предварительные замечания необходимы для понимания законностей, проявляющихся в живых телах. Биологические исследования привели к неоспоримому результату, что в основе процессов жизни лежат сравнительно простые процессы, их можно назвать элементарными. Насколько удалось анализировать их, они оказываются физической или химической природы, весьма вероятно, что и все они таковы. Направление этих элементарных физических и химических процессов обусловливается, как и в машинах, системными силами, зависящими от конфигурации организма, например, от невидимой структуры протоплазмы. В этом отношении живые тела представляют далеко идущие аналогии с механизмами, и, таким образом, существует полная возможность говорить о «механистическом понимании жизни». «Я думаю», – прибавляет Рейнке, – что это воззрение совершенно отлично от так называемого витализма, который смешивал в одну кучу господствующая и служащие силы» (Naturw. Vort. 3 Heft, р. 67). Но машины сами собой не возникают, те направляющие системные силы, которые делают машину машиной, соединены в одно гармоническое целое творческой деятельностью человека. Без механика машины немыслимы. Аналогии этому должны быть и в живых телах. Мы знаем, что сложные организмы животных и растений, в которых воплощены «системные условия», образовались путем развития из яйцевой клетки. Каким путем это могло произойти? Очевидно, развитие организма и вся деятельность его, связанные с системными условиями, должны иметь в живых телах особое «реальное основание или причину», подобно тому, как умственная работа техника есть причина конструкции машины. Мы приходим, таким образом, «к чему-то совершенно новому», к неизбежному признанно особых сил, которым обязана своим происхождением машинная структура, системные условия в животных и растениях. Эти силы Рейнке предлагает назвать «доминантами». Доминанты, по мысли автора, есть символическое понятие; они обозначают «наследственно необходимое» (Erbzwang), передающееся от поколения к поколению и вырабатывающее новый организм с его системными условиями. Доминанты, как механики, строят в правильной последовательности «целестремительно и целесообразно действующую структуру»; они объединяют в себе целый комплекс внутренних образующих причин. В первых своих трудах Рейнке различал два сорта доминант: рабочие (Arbeits-) и образующие (Bildungsdominanten); в последнее время он отождествляет ра6очие доминанты, (а, следовательно, и основу инстинктивных действий животного) с системными силами. В этом нельзя не видеть некоторую уступку механизму. Сопоставление доминант с энтелехией Дриша напрашивается само собой; их сходство отмечает и сам Рейнке. И так же, как энтелехия, доминанты представляют из себя понятие, символ (сравни Kunstbegriff Дриша), которым мы обозначаем «нечто неизвестное». Представить их каким-либо определенным образом нельзя, это просто «остаток анализа», «идея», «признание временного агностицизма». Сравнение с умственной деятельностью техника единственно возможная аналогия для доминант, а потому их с полным правом можно назвать «интеллектуальной силой» организмов. Но принадлежат ли доминанты к материальным или психическим силам? И на этот вопрос трудно дать вполне определенный ответ. «Я лично, – говорит Рейнке, – понимаю душу только как нечто сознательное», и это говорит, конечно, не в пользу психической природы доминантов. Психическое, по взгляду Рейнке, представляет из себя особую силу, связанную с сознанием; она, как и доминанты, подчиняет себе энергию; между психическим и материальным существует взаимодействие, каузальная связь. Таким образом Рейнке выступает решительным противником психофизического параллелизма. «У человека, высшей точки в развитии живого, мы имеем в динамическом отношении дело с силами четырех видов; при современном состоянии биологии мы можем назвать их: энергией, системными силами, доминантами и сознательными силами духа. О природе последних мы не можем образовать представления, которое позволяло бы сравнивать их с известными силами природы». Так как психические силы влияют на материальные процессы в организме, то они, само собой разумеется, должны войти в область биологии. В этом пункте Рейнке идет дальше Дриша, считая возможным разделить витальные силы на две определенных категории – доминанты и душу. Заметим, что вопрос о сознательности психического и об отношении сознательного к бессознательному принадлежит к числу спорных и решается специалистами-психологами крайне различно, а потому разделение неведомого остатка биологического анализа на доминанты и душу представляет в значительной степени дело вкуса. Ведь, не находит же сам Рейнке для доминант иной аналогии кроме умственной деятельности техника. Сказанного, я думаю, достаточно для характеристики взглядов Рейнке. К тому же читатель, ознакомившийся с Дришем, вряд ли найдет для себя у Рейнке много нового. Оба они стоят на гребне той философской волны, которая ворвалась в биологию, разрушив плотину догматического материализма, и являются несомненно лучшими и наиболее типичными представителями нового курса. Они работают в одном направлении, но обращаются к различному кругу читателей и тем дополняют друг друга.
III.
Интересно отметить, как по мере развития витализма постепенно меняется взгляд на значение психического в деле объяснения жизненных явлений. Дриш с полной последовательностью отрицает возможность такого применения; он согласен говорить о душе, но как об энтелехии или психоиде. Рейнке делает шаг дальше и выделяет сознательную душу как особый принцип жизненных явлений; у новейшего представителя витализма Паули сознательно психическое выступает на первый план, вмещая в себя весь остающийся от анализа остаток. Август Паули, профессор зоологии Мюнхенского университета, принадлежит к числу тех теоретиков эволюционного учения (Deszendenztheoretiker), которые, в противовес дарвинизму с особым старанием выдвигают и обновляют ламаркизм и которые сгруппировались вокруг нового журнала Zeitschrift für den Ausbau der Entwickelungslehre. Главным трудом Паули является объемистая книга «Darwinismus und Lamarkismus» (1906г.); она сразу выдвинула автора и доставила ему популярность. Для нас больший интерес представляет сводка теоретических взглядов Паули, сделанная им в статье «Die Anwendung des Zweckbegriffs auf die organische Körper (Zeitschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre. Bd. I, H. 1 - 2, 1907), ее мы и будем иметь в виду. Нижеследующая выписка из статьи Паули сразу введет нас в сущность его понимания жизни. Дело идет об определении клетки и протоплазмы. Приведя обычное определение в формулировке Рихарда Гертвига (из Lehrbuch der Zoologie 8 Autl. 1906), по которому основными жизненными свойствами протоплазмы является «движение, раздражимость, способность к питанию и размножение», Паули продолжает: «Это обычное понимание жизненных свойств клетки должно быть изменено таким образом: протоплазма ощущает[8]), осведомлена о своих состояниях, следовательно, имеет психологическую субъективность; она различает путем сопоставления разнородных состояний, через это раздражается в своей энергетической сущности, определяется в реакциях, состоящих в производстве физической работы, которую она направляет в зависимости от своего состояния, при чем она стремится благоприятствовать тем моментам, которые сохраняют или повышают желательное состояние, препятствуют или удаляют нежелательное. Её действия в своих реакциях имеют таким образом рациональное отношение к внутренним состояниям, – qualitates effectus qualitatibus causae respondent, – они телеологичны и следуют психофизической каузальности; это поступки (Handlungen), их производительность ограничена, они унаследованы, выучены, обусловлены повышением раздражений» (р. 8). Читатель простит за несколько неуклюжий перевод длинных периодов Паули, если сравнит его с подлинником. Во всяком случае то, что хочет сказать автор, совершенно ясно. Он думает, что изучение клетки вступает в новую, «логически» обусловленную фазу: необходимо создать «психологию клетки» и таким путем отыскивать объяснение непонятных для нас жизненных процессов. Напомним, что сходные взгляды высказывались 15 лет назад нашим соотечественником проф. Фаминциным [так у В.К. – С.Ч.] в его книге «Естествознание и психология». Рассмотрим теперь, как Паули обосновывает приведенные положения. Исходным пунктом для него служит понятие целесообразности в применении к живым существам. Дарвинизм, как известно, пытался уничтожить это понятие, т. е. дать ему простое механическое толкование. Попытку эту в конечном итоге следует признать неудавшейся: понятие цели просачивается отовсюду, пробивается в биологии самыми различными путями и мало-помалу становится её теоретическим узлом. В неоламаркизме телеология выступает как главный принципиальный момент. Паули рассуждает далее следующим образом. Раз мы вводим понятие цели для объяснения явлений, т. е. применяем его в качестве причины, объяснение только тогда будет «естественно», когда мы переместим его в объект, или вернее, в «субъект, носитель подлежащих объяснению свойств». Только таким путем устраняется теистическая телеология, переносящая цель в Творца (в этом устранении теистического взгляда Паули усматривает особую заслугу ламаркизма). Таким образом, живое существо проявляет самостоятельную целесообразную деятельность – «аутотелеологию». Что же это значит? Характерным для многочисленных жизненных проявлений целепричины является то, что между причиной и действием вдвигается средний член. При его помощи особенности ожидаемого действия отражаются на причинах. А отсюда вытекает, что между причиной и действием существует отношение суждения (Urteilsbeziehung). Отношение суждения может возникнуть только при наличности факторов ощущающих, различающих, делающих выбор между тем или другим, ergo целесообразная причинность может быть только психистической (psychistische). Весь произведенный ход рассуждений является очень знакомым; за последние двадцать лет подобные мысли излагались в естественнонаучной литературе, по крайней мере, раз двадцать, и были вполне точно формулированы Коссманном в его трактате о телеологии. Характерным для Паули является быстрое заключение к психическому характеру целепричины, – шаг, сделать который большинство авторов остерегалось. Но, чтобы правильно применить психическое к объяснению биологических явлений, необходимо точно определить природу психического и его отношение к материальным процессам. В приведенной мною длинной выписке встречается фраза: «действия… следуют психофизической каузальности». Отсюда, кажется, можно заключить, что Паули дуалист и признает существование особой душевной субстанции, действующей на тело, как Рейнке, Буссе, Гартманн и др. Но дуалистом Паули признавать себя не хочет. Вот как высказывается он по поводу психического. Причинность, обусловленная психическим фактором, как думают обыкновенно, должна соединяться с органическими силами, не встречающимися в мире неорганическом. На этом основании введение психических факторов должно или повести к витализму, к жизненной силе старых авторов, вполне справедливо оставленной, или вырыть пропасть между органическим и неорганическим царством. Но и последнего мы допустить не можем, так как для нас ясно, что первые живые существа должны были произойти естественным путем из неорганического материала. Избежать затруднения возможно тем же способом, как в свое время Бунге – именно ввести понятие целесообразного как «основное правило при обсуждении физиологических реакций организма», пользоваться им как «эвристическим принципом». Такое применение делал и Кант; он считал целесообразность принципом регулятивным, а не конститутивным. Как эвристический принцип, понятие цели может быть приложено и к неорганическому миру; по крайней мере, закон Le Chatelier и Braun'a, устанавливающей внутреннее равновесие химических процессов, указывает на их аутотелеологию. Само собою разумеется, что аутотелеологию, как эвристический принцип, «нельзя представить чувственно», «пытаться субстанциировать ее в понятиях – неправильно». Поэтому «должны мы понятие души (клеточная душа, телесная душа), как обозначения, вводящая в заблуждение, совершенно отбросить и заменить ее каузальными терминами или такими прилагательными, которые выражают, что мы имеем в виду психический момент явления» (р. 6). Но, прибавляет далее Паули, так как эта максима, когда мы подставляем ее в наш вопрос о природе, «показывает объективное существование представлений цели вне нас, она не может рассматриваться как простая субъективная необходимость нашего рассудка, но обнаруживает свое объективное обоснование в природе» и таким образом к неоламаркистской телеологии приложим кантовский термин «физического реализма». Над этим местом нельзя не задуматься. С одной стороны, аутотелеология – эвристически принцип и его нельзя субстанциировать, с другой стороны, она имеет объективное обоснование в природе и может быть определена терминами, имеющими в виду психический момент. Что же она такое? Kunstbegriff, как доминанты и энтелехия? Но тогда на каком же основании совершается применение вполне точных и определенных психических терминов: ощущение, различение, суждение? Что Паули не желает стоять на почве обычного психофизического параллелизма, это, мне кажется, ясно: тогда ведь психические факторы никакого объяснения дать не могут и привлекать их в биологии нет никакой нужды. Очевидно, боязнь теизма и, если позволительно так выразиться, естественно научный этикет не позволяют Паули субстанциировать психическое и заставляют его говорить о сознательной душе, не называя ее по имени. В противном случае гораздо проще было бы примкнуть к Дришу. Здесь сказывается недостаток строгой философской подготовки Паули, необыкновенно ясно выступающий при сравнении его с Дришем и Рейнке. Миновавши трудное и щекотливое разъяснение о природе аутотелеологии (помещенное, к слову сказать, в примечании), Паули беспрепятственно идет далее и доходит до результата приведенной в начале главы цитаты, – о необходимости пополнить определение клетке психологическими терминами. В разъяснение этой цитаты я приведу некоторые дальнейшие соображения Паули о психизме клетки. Мы знаем аутотелеологию лучше всего из личного опыта, но в человеке, организме сложном, она связана с сложным мозгом; если мы будем прямо переносить свойства человеческой психики на клетку, мы, совершенно справедливо, заслужим упрек в антропоморфизме. Необходимо произвести анализ психических свойства человека и редуцировать их, т. е. свести к наиболее примитивным формам, которые могут встретиться и в клетке. Производя подобный анализ, Паули сводит аутотелеологическую каузальность к простейшему психическому фактору – ощущению, соединенному с энергетическим напряжением. Одного этого фактора достаточно, чтобы понять аутотелеологию клетки в целом: из разнородности ощущений вытекает различение – основной процесс познания, «из противоположности ощущений происходит возбуждение (Erregung) и из их физического напряжения хотение (Wollen)». Таким образом Паули постепенно восстановляет в жизненном элементе – клетке всю совокупность психических свойств, характеризующих, поступки человека; этим же термином «поступки» он и обозначает проявления клеточной жизнедеятельности. А так как анализ, производимый Паули, в психологическом отношении не отличается особой основательностью, то вряд ли ему удастся избежать упрека в антропоморфизме, который его, видимо, пугает. Я опускаю дальнейшее изложение статьи, где Паули на конкретных примерах применяет аутотелеологию и психологию к объяснению физиологических явлений. Он рассказывает об органах чувств растений, а затем подробно останавливается на работах Павлова по физиологии пищеварения, выясняющих, между прочим, влияние психических факторов на количество и качество выделяемых секретов. Приводимые факты несомненно имеют глубокий интерес, но к характеристике теоретических взглядов Паули на живое ничего нового не прибавляют. Шопенгауэр выставил эпиграфом к одному из своих трактатов следующее изречение: «Moral predigenist leicht, moral begründen schwer»; то же, с соответственными изменениями, может относиться к попыткам ввести психику в естествознание. Говорить о необходимости психологии клетки, описывать с помощью психологических терминов действия живого существа, даже эволюцию жизни в целом – легко и как будто понятно, но обосновать это введение и поставить психическое в каузальную связь с биологическим, не выходя при этом за пределы научной биологии, – задача трудная и вряд ли разрешимая. Статья Паули положительного чего-либо в этом отношении не дает, но она интересна как образчик взглядов и настроений известной группы зоологов начала XX века. Проблемы теоретической биологии и постановка их в сущности и теперь те же, что были во времена Аристотеля, более того, они возникают в уме всякого человека, профана, когда он начинает поглубже размышлять о жизни. XIX век, «веке естествознания», занялся их детальной разработкой, но тут произошло нечто удивительное: по мере работы сами проблемы мало-помалу исчезали из умственного поля зрения ученого. За деревьями пропал лес. И теперь мы присутствуем вновь при его открытии, и вновь старые вековечные проблемы получили в глазах прозревших интерес новизны. Мудрено ли, что простая и естественная формулировка проблемы кажется ученому, привыкшему к иной речи, целым откровением. В самом деле, содержит ли в себе неовитализм громадного большинства глашатаев и проповедников нового курса, начиная с Бунге, Риндфлейша, Бородина и кончая Шнейдером и Паули, что-нибудь большее, чем постановку вопроса? IV.
Я не буду долго останавливаться на взглядах других биологов виталистов, из которых первое место по количеству написанного занимает Карл Камилло Шнейдер. Взгляды его, еще менее ясные, чем взгляды Паули, находятся к тому же в периоде постоянной эволюции: он сам уже отмечает несколько периодов своего витализма. В последней статье (Zeitschrift f. d. Aasbau der Entwickelungslehre Bd. I) Шнейдер называет свое новейшее направление «ейвитализмом» и ставит в прямую связь с vis vitalis старых авторов. Существует, по его мнению, специфическое живое вещество, оно проявляется всегда в виде зерен, видимых или невидимых в микроскоп, и при всех процессах, исключая развитие, остается неизмененным. Главная задача живого вещества – сообщать физическим и химическим процессам известное направление. Это повторение учения о жизненных единицах, господствовавшего в литературе 90-х годов; Шнейдер ставит его в связь с жизненной силой и сообщает ему особую окраску. «Жизненность» для него – психический феномен, жизненный субстрат иной, чем материальный, именно психический. Но здесь необходимо прибавить, что Шнейдер понимает психическое в смысле Маха, т. е. «что психические элементы: цвета, тона, давления, теплоощущения, запахи и т. д., суть реальности, которые выполняют пространство, а не только мерещатся в мозгу». На этом я позволяю себе поставить точку и просить лиц, заинтересовавшихся Шнейдером, прочесть его статью в подлиннике так как передать в кратких словах дальнейшее философствование, на мой взгляд, немыслимо. «Следует радоваться, – говорить сам Шнейдер, – если на этой почве понимаешь сам себя; от полного понимания других, у которых нередко недостает самопонимания, легко остаться вдали». Но виталистическое течете не исчерпывается одними специалистами-биологами; в разработке его приняли yчастие и философы, конечно те, для кого область биологи не является чуждой. Так как вопрос о жизненной силе обнаруживаете непреодолимую наклонность погружаться в область спекуляции, то выслушать голоса лиц, компетентных в этой области, является положительно необходимым. Говоря это, я имею в виду двух философов: Эдуарда ф. Гартмана и Анри Бергсона. Обладая громадными специальными знаниями во всех отраслях естествознания, Гартманн имел полное право сказать свое слово по поводу понимания жизни, рассчитывая, что оно будет принято во внимание. Он посвятил вопросу о жизни одно из последних произведений «Problem des Lebens», большой том в 430 страниц. Мы найдем в нем во-первых, подробную историю вопроса, изложение воззрений всех мало-мальски выдающихся биологов с середины XIX века, и, во-вторых, крайне ясную и отчетливую формулировку собственных взглядов Гартманна. Основания, заставляющие Гартманна примкнуть к витализму, те же, что и у прочих виталистов: недостаточность обычных, «центральных» сил физики и механики для объяснения жизни, невозможность объяснить при их помощи целесообразность, которую проявляет организм в выборе средств для защиты и самосохранения, развитие и т. д. Выяснение всего этого составляет, в глазах Гартманна, главную заслугу витализма. Но, как философ реалист, он не довольствуется констатированіем факта и построением абстрактных. понятий, вроде энтелехии или доминант, а идет дальше и пытается точнее определить, в согласии с своей метафизикой, характерные особенности «жизненного принципа». Таким образом, он как бы продолжает работу идеалиста Дриша, возводя на расчищенном им месте, здание натурфилософии. И надо отдать справедливость: это здание является одним из лучших архитектурных образцов натурфилософского стиля. Новый витализм, говорит Гартманн, должен избегать трех основных ошибок старого, трех ложных путей. идя по которым он всегда будет побежден механизмом. Первый ложный путь – материализма: жизненный принцип не может быть материальным началом, хотя бы под ним понимать вещество более тонкое, эфирное, четвертое или пятое состояние аггрегации. Второй ложный путь – антропоморфизма. Так как жизненный принцип проявляет целесообразную деятельность, его одаряли свойствами человеческого сознания, снабжали его знанием физических и химических процессов, о которых он раз- мышлял, делал выбор и т. д. Из него делали род «личного демона», которым был одарен организм, сам того не подозревая. Третий путь – индивидуализации. Признание жизненного принципа чем-то индивидуальным, отмеренным в известной пропорции каждой особи. В таком случае непонятным является его рост, убыль, исчезание, деление или слияние двух принципов. Сообразно со всем этим мы должны представлять жизненный принцип нематериальным, бессознательным и надындивидуальным (supraindividuell). Понятие материи, по воззрениям современной теоретической физики, сводится к понятию силы, связанной с известной точкой пространства как центром: всякая материя разлагается в конце концов на ряд центральных сил. Жизненный принцип, как думает Гартман, также представляет из себя силу, но совершенно иного рода, в отличие от материи не имеющую центра, т.е. не исходящую из определенного места в пространстве. Будучи силой, жизненный принцип может действовать на другие силы, т.е. на частицы матеріи; вращая и перемещая их, он может перевести энергию системы из одной координатной оси в другую. Но сам он не есть энергия и потенциала не имеет. Гартманн, как автор «Weltanschauung dег modernen Physik», вполне проникся духом современной механики и энергетики; это позволяет ему подробно развивать свой взгляд на силы, не имеющие центра, и доказывать, что с физической точки зренія их можно признать без противоречия. Конечно, можно спорить, существуют ли такія силы в действительности, но раз без их помощи нельзя обойтись – введение их является позволительным. Жизненный принцип может быть только бессознательным. Тот, кто не признает бессознательных психических процессов, может назвать его психоидным; для самого Гартманна он будет, конечно, психическим. Нельзя приписывать бессознательному принципу ни памяти, ни суждений, ни приобретенных знаний; он действует, как и любая сила, по свойственным ему, имманентным законам, в силу необходимости. Следует заметить, что бессознательно психический характер имеют, по Гартманну, и атомы, и молекулы, но они представляют из себя индивидуумы, хотя и низшего порядка. А жизнен- ный принцип не есть что либо индивидуальное т.е. занимающее в известное время известное место в пространстве, он только проявляет свою деятельность на индивидуумах, состоящих из центральных сил, будь то молекулы или организмы. Они доставляют для жизненного принципа точку прикрепленія – punctum mobile, другой точки – punctum fixum – нет. Действия жизненного принципа, конечно, целесообразны, в этом его главное значение, но какой-либо принципиальной разницы между ним и материей в этом отношении не имеется; его телеология только выше телеологии неорганической природы. Таким образом жизненная сила занимает определенное место в мировом целом, в своем существе бессознательном и состоящем из бессознательных, целесообразно действующих сил. Мы имеем полное право назвать такой жизненный принцип метафизическим; Гартманн это и делает. Граница между естествознанием и натурфилософией исчезает; они сливаются в одно; так, конечно, и должно быть для всякого, кто пытается охватить мировой процесс в целом. Крайне интересным является взгляд Гартманна на отношение души к телу, на т. наз. психофизическую каузальность. Гартманн, как известно, является противником психофизического параллелизма, но в его системе вопрос о связи души с телом получает особое освещение. Сознательно психическое и бессознательно психическое – два понятия, которые следует резко разграничивать. Бессознательное психическое, с которым мы уже знакомы, так как в организмах оно совпадает с жизненным принципом, может действовать на физическое. Это вполне понятно: ведь и физическое в сущности бессознательно психическое, только индивидуализованное. Но сознательно психическое имеет гораздо более узкую область: это просто внутренняя сторона бессознательно психического, и его прямое отношение к физическому немыслимо. Вопрос о «действии души на тело» расчленяется таким образом на два: 1) действие бессознательно-психического на физическое – тут область «психофизической каузальности» и 2) отношение сознательного психического к бессознательному; здесь имеется своего рода «параллелизм». Для современного витализма такая постановка вопроса представляет большой интерес, и если бы Паули познакомился с ней, его изложение, вероятно, выиграло бы в ясности. V. Во многих пунктах к мировоззрению Гартманна близко подходит другой философ, трактующий биологические проблемы – Анри Бергсон, профессор философии в Со11ègе dе Fгаnсе. Его последний труд «L’évolution créatrice», вышедший в 1907 году, выдержал за год четыре изданія и сделался положительно модной книгой[9]. «Католики читают его; прагматисты им пользуются; социалисты его изучают», пишет один из французских рецензентов. Ганс Дриш восторженно приветствовал книгу Бергсона, стараясь обратить на нее внимание своих соотечественников – и одна эта рекомендация может побудить биолога взяться за ее изучение. Из обширной и богатой идеями книги Бергсона я приведу лишь то, что имеет непосредственное отношение к пониманию жизни. Бергсон, конечно, является виталистом, но он не заботится о научном обоснованіи витализма, а строит дальше, и в этом отношении его произведение, на ряду с Problem des Lebens Гартманна, можно рассматривать как завершение и логическое продолжение трудов Дриша. Действительно, понять и представить энтелехию – жизненный принцип Дриша, нельзя, – Бергсон отсюда и начинает: «наша мысль в ее чисто логической форме неспособна представить истинную природу жизни, глубокое значение процесса эволюции». Жизненное начало слишком своеобразно, чтобы его можно уложить в рамки нашей науки. Основу и сущность жизни составляет особый изначальный порыв, стремление – «elan originel», никогда не иссякающий, проходящий от поколения к поколению по всему живому; он заставляет существа жить, развиваться, подчинять своей власти мертвую материю, эволюционировать. Это единый поток, раздробившийся на множество ручейков и в каждом из них проявляющий какую-либо особую сторону своей природы. Понять жизнь, значит понять «elan originel», но ни в одном из живых существ не проявляется он вполне, их необходимо брать все вместе, в их бесконечном разнообразии. Но каким же путем возможно познание этой основной сущности жизни? Наука, созданная человечеством и которой оно так гордится, для этой цели совершенно непригодна. Что же тогда пригодно? Здесь Бергсон развивает свою теории познания, сплетенную в один узел с его натурфилософией – и в этом одна из наиболее интересных сторон всей системы. Познание есть одно из проявлений жизни, как и сама жизнь: оно разделяется на несколько параллельно бегущих ручьев: в различных отделах животного царства способность познавать выражена различно не только в количественном, но и в качественном отношении. Интеллект человека есть один из видов познавания, развившийся в нем с особой силой; его характерная особенность – способность к логическому мышлению, способность к геометрии и вообще к математической обработке действительности. Интеллект по необходимости односторонен; он предназначен для того, чтобы овладеть мертвой, неорганической природой и сделать из неё орудие человека; его настоящая задача – фабрикация, и вместо homo sapiens гораздо правильнее было бы назвать человека homo faber – ремесленник. Но охватить сущность жизни, вечно текущей, вечно меняющейся, человеческий интеллект с его наукой решительно не в состоянии. Жизнь алогична. К счастью интеллект не единственный способ познавания; познавать можно при помощи инстинкта. Эта способность развита особенно ярко в одном из разветвлений жизненного потока, у членистоногих и в семействе перепончатокрылых (осы, пчелы, муравьи) достигает своего апогея. Осы-одиночки могут проделывать над жуками, заготовляя их в пищу своему потомству, такие сложные операции, которые не под силу ученому зоологу. Она знает, где помещаются нервные узлы жука, и находит их непосредственно, без предварительного обучения, в силу инстинкта. Мы можем определить инстинкт как непосредственное знание вещей, тогда как интеллект направлен на познание отношений. И человек не вполне лишен инстинктивного знания. Интеллект, логическое мышление образует светлое ядро человеческого познавания, оно окружено менее ясной, туманной каймой инстинктивного знания. Это то, что философы называли интуицией, «Anschauung», знанием, непосредственно проникающим в суть вещей, без суждений и логики. Только таким интуитивным путем можем мы понять сущность жизни. Неспособность интеллекта понять жизнь сказывается в явной недостаточности двух современных воззрений теоретической биологии: механизма и финализма, т. е. телеологии. Механическое объяснение жизни невозможно уже по одному тому, что оно не может принять в расчет времени. Все живое, возникает и беспрерывно изменяется, его «точит зуб времени», т. е. каждый протекший момент накладывает на него свой отпечаток. Время неустанно течет вперед, а вместе с ним меняется и жизнь; она, следовательно, никогда не повторяется; а для механического миропонимания как раз время реальной длительности (durée) не имеет, оно там просто «время», «t», которое можно заставить двигаться в любую сторону с любой скоростью. Такое время приложимо только для объяснений повторяющихся явлений мертвой природы. Телеологи новейшей формации, например, неоламаркисты, также стараются втиснуть живое в неподходящие рамки. Иногда они толкуют о сознательной целесообразной деятельности, проявляемой живым существом в его эволюции, как если бы дело шло о человеке, т.е. переносят особенности человеческого интеллекта на основу жизни. Иногда же им кажется, что жизнь развивается по известному плану, неизвестно кем и когда начертанному; в этом случае они просто рассматривают прошедшее при свете настоящего. Но в развитии жизни никакого плана нет: жизнь идет как ей удобнее, развивая присущая ей особенности и разделяя их между отдельными видами, пробуя и терпя неудачи, – она все время творит новое и направление её творчества предвидеть нельзя. Мы не будем входить в рассмотрение, сколько в идеях Бергсона содержится нового. Философски образованный читатель встретит в «Творческой эволюции», конечно, много знакомого: интуицию, всплывающую вновь на поверхность философии, волю как основу жизни, подчиненность интеллекта и т. д. Но все это мастерски спаяно в одно целое, изложено в блестящей форме, и дает, в общем, необыкновенно яркое и глубокое освещение жизни. Может быть, не один биолог бросит с досадой эту книгу, как только познакомится с апологией интуитивного знания – и он много потеряет. Ибо то, на что обра- щает внимание Бергсон, в основе своей совершенно правильно, можно спорить только о способах его выражения. Возможно, например, сводить интуицию на то бессознательное психическое творчество, вопрос о котором усиленно разрабатывается новейшей психологией. Но, кроме того, вполне возможно вводить в цикл научного познавания то, что Бергсон считает исключительным достоянием интуиции. Это не будет познание естественнонаучное, познание точных наук, которое Бергсон считает за единственное, но познание историческое, в том смысле как его теорию развивает Риккерт. Логика истории и её основные понятия — иные, чем в естествознании, и, конечно, попытки уложить исторический процесс эволюции в рамки естествознания обречены на неудачу. К этому положению, как и вообще к взглядам Бергсона на изучение живого, нам придется еще вернуться во второй части. ___________________________________
Начавши с чисто биологического вопроса, мы поневоле должны были углубиться в недра натурфилософии. Интерес к натурфилософии вполне понятен и обоснован: ведь «естествоиспытатель, кроме того, человек, а как человек всегда более или менее философ», замечает Гартманн. Действительно, входя в более близкое соприкосновение с метафизическими системами, вчитываясь в них и становясь на точку зрения их творца, получаешь особое наслаждение. Весь мир начинает казаться обширным светлым помещением, где в правильном порядке расположены различные стадии мирового процесса, сведенные к их внутренней сущности, и где ты сам находишь свое место; все связано друг с другом тысячью цепей и образует одно гармоничное целое, полное смысла и прекрасное. Это наслаждение в значительной степени носит эстетический характер, подобно созерцанию художественного произведения, а потому становится понятным парадоксальное на первый раз утверждение Лотце, что в числе соображений, определяющих выбор между научными гипотезами, следует принимать во внимание и эстетические. В любой метафизической системе жизни и вопросам, связанным с ней, отводится известное место, но оно по необходимости ограничено, имеет значение только в связи с целым и подчиняется ему, как более важному. Поэтому, отрываясь от созерцания целого и переходя в область конкретной науки с её действительными потребностями, фактами и мелочами, естествоиспытатель начинает чувствовать невольное разочарование: философское понимание, может быть и правильное, оказывается чересчур широким и абстрактным, а в некоторых частях и смелым. Философ решается сделать такой вывод, перешагнуть такую грань, которая работнику в той или иной области кажется рискованным предприятием. И это вполне понятно, так как философ, решив частный вопрос, идет дальше, его цель не здесь; работник же останавливается в раздумье, зная, что много труда придется еще положить, прежде чем дело получит полную научную ясность. Таким, именно, пунктом является в биологии признание особой силы, агента, энтелехии, души, elan, или как его там ни называть, – без которой объяснение жизни будет невозможно и которая не имеет аналогии в неорганической природе. Семь раз примерь, а один отрежь, говорит народная мудрость, а научная мудрость требует: «principia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» (Ньютон), потому мы должны еще и еще раз пересмотреть те мерки, которые витализм выдает за единственно возможные. Гартманн, несомненно представлявший себе положение деле яснее, чем кто-либо, пишет в предисловие к «Problem des Lebens»: «Естествоиспытатели должны в скором времени освоиться с мыслью, что телеологический способ рассмотрения никоим образом не нарушает или не прерывает этиологический, при чем он не только не равнозначущ с ними, но занимает высшую ступень (übergeordnet), и что натурфилософский витализм не касается и не ограничивает область работы и методы естествознания; таким образом, бороться против него и изгонять его не может представлять никакого интереса для специалиста. Как только этот взгляд получит господство, между естествознанием и философией восстановится мир». Под этим заявлением, я думаю, охотно подпишется каждый, кто не считает естественнонаучное познание за единственное и исчерпывающее всю область человеческого знания; весь вопрос заключается в том: где кончается естествознание и начинается натурфилософия? VI.
Я не думаю, чтобы можно было серьезно оспаривать положительные стороны витализма. Нужно представить себе то состояние, в котором находились наши воззрения на сущность жизни к началу 90-х годов XIX столетия, и то направление, в котором работали теоретики биологии, и тогда значение неовитализма в истории биологии станет совершенно ясным. Основные свойства жизни связывали обыкновенно с свойствами живого вещества (Lebensstoff, matière vivante), т.е. протоплазмы. Вещество это, – или смесь веществ, как говорили многие, – конечно крайне сложно с химической точки зрения, формула его неизвестна, получить ее синтетическим путем пока что не удается, тем не менее считать его чем-либо выходящим из рамок физики и химии нет никаких оснований, а потому можно с полным правом рассчитывать вывести все основные свойства жизни из химических и физических свойств протоплазмы. Это являлось, так сказать, основным положением. Дальнейшая работа в этом направлении привела к необходимости расчленить протоплазму и клетку на ряд более простых жизненных единиц, отличающихся от молекул лишь большей сложностью (физиологические единицы Спенсера, плазомы Визнера, пангены де Фриза, биобласты Гертвига, 6иогены Ферворна, биофоры Вейсманна, геммулы Гааке, молекулы-вихри Чермака и др.). Таким путем в биологии был перенесен один из основных приемов физики и химии — объяснение целого из свойств его гипотетических составных частей. Существование упомянутых жизненных единиц было, конечно, вспомогательной гипотезой, так как, за исключением Альтманна, все остальные ученые считали свои единицы невидимыми. В целом ряде учебников и монографий мы находим попытки объяснить все свойства живых существ, включая сюда явления наследственности, путем соединения и распределения движущихся, делящихся и дифференцирующихся жизненных единиц. Вопрос о целесообразности в устройстве и функциях организмов иногда прямо отклонялся как ненаучный, чаще же разрешался ссылкой на теорию Дарвина. Целесообразное устройство и деятельность живого существа есть результат естественного подбора и борьбы за существование. безжалостно удаляющей все нецелесообразное. Иными словами целесообразное считалось приспособлением. Такое «механическое объяснение» целесообразности находим мы в речах Дюбуа Реймона, одного из самых крупных мыслителей механистического направления. Само собой разумеется, что большая часть биологов занималась, как и всегда, разработкой специальных вопросов, производя физиологические эксперименты, химические анализы или микроскопическая наблюдения. Механистическое направление, установленное классическими трудами Дюбуа Реймона, Людвига, Гельмгольца, оказалось крайне плодотворным при разработке многих частных вопросов: процессов дыхании, пищеварения, кровообращения. Можно сказать, что только тогда стали действительно научным образом понимать эти процессы, когда удалось изгнать жизненную силу старых авторов, не поддававшуюся никакому учету. Мудрено ли, что большинство научных работников глубоко уверовало в принципы механизма, предполагая, что и то загадочное, что оставалось в живом, будет разъяснено в недалеком будущем. Но главную опору этой уверенности доставляли два основных положения естествознания, выработанных в ХIХ веке: закон сохранения материи закон сохранения энергии, приложимые ко всем явлениям природы, в том числе и живым существам. Эти всеобъемлющие законы самым категорическим образом исключали возможность введения каких-либо сверхъестественных сил, а одной из таких и была жизненная сила старых авторов. Несомненно, в катехизисе биологов было много таких пунктов, которые так и просились на критику. Определения жизни, в роде того, которое давал физиолог Ферворн: «жизнь есть обмен веществ белковых тел», были, в сущности говоря, так наивны, что легко могли возбудить соблазн. И вот, когда нашлись ученые, взглянувшие на современную науку непредубежденными глазами и достаточно смелые, чтобы выступить с её критикой, они нашли для себя благодарную почву. Витализм выступил сначала как критика ходячих утверждений о жизни, и в этом заключается его главное значение. 1. Застрельщики нового направления обратили главное внимание на то, что оставалось неизвестным в жизненных проявлениях и яснее очертили это. Они показали, что целый ряд процессов с точки зрения физики и химии остаются совершенно необъяснимыми, и даже в таких явлениях, как движение соков в растениях и проникновение питательных веществ в животный организм, наблюдается ряд сложных и своеобразных законностей. Механистам только кажется, что их легко объяснить, на самом же деле они этого произвести не могут. 2. Вторым важным пунктом было указание на игнорирование механистами основного свойства жизни. Живое существо не представляет из себя вещество или конгломерат вещественных частиц, а нечто единое, цельное, само себя поддерживающее, обладающее свойством выбирать и действовать целесообразно, как действует целесообразно человек. В развитии и деятельности организма проявляется ряд таких сложных целесообразных приемов, что сравнивать его с машиной, как это делали механисты, нельзя. 3. В тесной связи с развитием этого взгляда находилась и критика дарвинизма, ей занимались более или менее все представители витализма. При этом выяснилось, что дарвинизм не дает никакого объяснения для целесообразности. Он может, в крайнем случае, объяснить переход одной приспособленной формы в другую, приспособленную к новым условиям, но происхождения целесообразности он даже и не затрагивает. Целесообразность есть основное свойство всякого живого существа, её происхождение связано с происхождением жизни. 4. Выдвигая на первый план целесообразность, общее регулирование физико-химических процессов, происходящее в организме, виталисты обратили внимание и на его психическую жизнь. А так как целесообразное известно нам лучше всего из опыта душевной жизни, то сама собой являлась мысль поставить деятельность живого существа в ту или иную зависимость от его психических переживаний. Это направление нашло себе поддержку в специальной психофизиологической литературе, где господствовавшей до последнего времени параллелизм начал подвергаться усиленной критике. К этому сводилась, в главных чертах, критическая деятельность нового направления. Как я уже указывал, мысли, лежавшие в его основе, не были совершенно новыми, но они были основательно забыты, и для поколения ученых, выросших на механизме, как бы не существовали. Витализм энергично выдвинул и вполне определенно формулировал ряд вопросов, без которых прогресс научной биологии невозможен и которые был отодвинуты в сторону механизмом – в этом, на мой взгляд, заключается его неоспоримое историческое значение. VII.
Начавши с критики, витализм стал постепенно отливаться в учение или систему. С этой положительной стороной витализма читатель достаточно ознакомился из предшествовавшего изложения трудов Дриша, Рейнке, Гартманна; он мог убедиться в какое непримиримое отношение становятся их выводы к механической биологии. Но, изучая процесс развития витализма как системы, нельзя, мне кажется, не отметить, что приемы и характер критики, практиковавшейся виталистами, наложили неизгладимый отпечаток на положительную сторону их учения. Кто хотел бы ближе определить свое отношение к неовитализму, должен прежде всего выяснить свое отношение к его критическим приемам, к тем посылкам, на которых они зиждутся. А в них, наряду с сильными, есть и свои слабые стороны. Незаметные на первый взгляд, они разрастаются при более внимательном исследовании до таких размеров, что начинают сообщать витализму совершенно иную, менее контрастную окраску. На выяснении этого очень важного пункта я позволю себе остановиться подольше. I. Первую слабую сторону виталистической критики составляет вошедшая в обиход посылка, согласно которой физику и химию, как науки о мире неорганическом, можно сопоставлять и противопоставлять биологии, как науке о жизни. Дриш, например, ставит физику, химии, кристаллографию и биологию в один, постепенно усложняющийся ряд. Конечно, такая классификация с известной формальной точки зрения является правильной, но она игнорирует одно существенное обстоятельство. Если вникнуть поглубже в смысл и истинные задачи указанных наук, то становится ясно, что физика и химия с одной стороны, кристаллография и биология с другой – науки совер- шенно различного типа и направления. Оба ряда наук имеют дело с одним и тем же материалом – природой, но изучают его с различных сторон. Кристаллография и биология ставят задачей изучать формы, в которых проявляется природа, естественные тела (corpora naturalia), в том виде, как они нам даны, – тогда как физика и химия устанавливают общие законности явлений природы (principia naturalia). И эту задачу они могут выполнить лишь путем умышленного отбрасывания целого ряда частных условий, как раз имеющих первостепенное значение для естественных тел. Физика и химия, как много раз указывалось, сами создают объекты своего изучения; они конструируют свои понятия «вещество», «система» и т.д. и рассматривают явления природы, лишь поскольку они входят в рамки этих понятий. В теоретической физике, где совершается настоящая научная переработка данных эксперимента и наблюденія, этот метод выступает с полной прозрачностью. Физик изучает твердое состояние вещества, несжимаемую жидкость и выводит ряд законностей, имеющих значение только при наличности определенных предпосылок; в это же самое время он нисколько не интересуется вопросом, есть ли поверхность у изучаемого им объекта. С другой стороны, когда он начинает рассматривать поверхность, он закрывает глаза на многое другое. Аналогичное этому происходит и в химии. Таким путем мы получаем в физике законы натяжения поверхности, движения жидкости, электрона и еще более общие законы движения вообще, в химии – законы весовых отношений, обратимости реакций, массового действия, – а в природе мы встречаем капли, кристаллы, облака: тела, в которых физические и химические процессы распределяются в известном пространстве в известное время. Законности, наблюдаемые в телах и характерные для них, совершенно иного порядка; они касаются, если можно так выразиться, распределения, направления и взаимной связи законностей физики и химии. Ясно, что науки, изучающие естественные тела: биология, кристаллография, геология, учение о небесных телах, нельзя ставить в один ряд с физикой и химией. Этого решительно не позволяет делать правильно проведенная методологическая классификация. Отсюда получается вывод, имеющий большое принципиальное значение: мы не должны смотреть на физику и химию, как на единственный образец наук о неорганическом мире; иначе, сами того не замечая, мы рискуем сузить круг неорганической законности, путем исключения тех законностей, которые наблюдаются в естественных телах, а тогда положение, что витальные процессы toto genere различны от физико-химических, получает неправильное освещение. Виталистическая критика в вопросе о живом и мертвом стала на ту же точку зрения, что и ходячий механизм, и старалась поразить его же собственным оружием. Механисты признавали живое вещество и были вправе ждать, что те общие законности, которые дает о веществе физика и химия, исчерпают его свойства. Если же мы признаем вместе с виталистами, что организм не вещество, то, само собой разумеется, мы должны изъять его из пределов компетентности физики и химии. Обычно думают, что принимая это положение, мы тем самым проводим резкую грань между живой и неорганической природой, и должны примкнуть к витализму. Но такой поворот, по самому существу дела, является неправильным. Механисты чувствуют это, хотя и не всегда отдают себе ясного логического отчета: поэтому в ответ на реституционные опыты Дриша они указывают на восстановление формы каплей и кристаллом. 2. В связи с указанным взглядом на физику и химию стоят попытки опровергнуть механистическое понимание жизни путем доказательства, что организм не машина. С легкой руки Ламеттри, озаглавившего свою материалистическую книгу «L’homme-machine», сравнение организма с машиной приобрело большую популярность. Им пользовались физиологи, чтобы пояснить ту или другую сторону процессов в организме: ведь, несомненно, что машина, созданная рукой человека, представляется более ясной и понятной, чем что-либо. Главная аналогия между машиной и организмом заключается в том, что оба они с энергетической точки зрения являются трансформаторами энергии; доставляемые им запасы энергии они превращают в механическую и другие виды рабочей энергии, теряя при этом значительную часть в виде тепла. По Атватеру организм человека может утилизировать для работы 20% энергии, т. е. столько же, сколько лучшие паровые машины. Увле- каясь этой аналогией, легко придти к так называемой машинной теории жизни. К ней были близки даже такие биологи как Дриш. И обратно, придя к убеждению, что жизнь есть процесс совершенно своеобразный, легко отождествить механистическое понимание жизни с Ламеттриевским homme-machine и обрушить на этот пункт главную тяжесть критики. Так и поступают, например, Дриш и Рейнке; доказав, что организм не есть машина, они считают задачу поконченной и витализм научно доказанным. Показать, что организм не тождествен с машиной, действительно нетрудно. Всякий знает, что машина строится по плану человека, его руками, для его определенных целей, что она представляет из себя как бы дополнение человеческих рук и самостоятельного значения иметь не может. Естественно, что машина не в состоянии делиться и расти и т. д. Но можно ли на этом основании делать какие-нибудь дальнейшие выводы? Разве не имеем мы в природе ряд естественных тел, которые несмотря на свою принадлежность к миру неорганическому, подобно организму не допускают полной аналогии с машиной? А ведь и они тоже могут трансформировать заключающуюся в них или приносимую извне энергию. Машина не делится – капля или жидкий кристалл делятся; машина образуется при участии рук человека, небесные тела берут начало без помощи чьих-либо рук. Доказательство витализма на основании сопоставления организма с машиной представляет из себя , таким образом, argumentatio ad hominen, а не ad rem. 3. Третьей слабой стороной (проявляющейся однако не у всех неовиталистов) является осужденное уже Гартманном стремление ввести сознательную психическую деятельность в область биологии. Одни вводят сознательно психическое, чтобы резче подчеркнуть принципиальное различие между живыми телами и так называемыми неодушевленными предметами — так поступает, например, Рейнке; другие, не довольствуясь таким применением, превращают его в принцип объяснения непонятных биологических процессов (Паули, Франсе). Отсюда один шаг до учения о «взаимодействии между душой и телом», «психофизической каузальности», которая так усиленно дебатируется последнее время в психологической литературе. А раз естество- испытатель сдвигается на такую точку зрения, вовлекается в обсуждение этих вопросов, ему кажется, что механистическое воззрение на жизнь снимается само собой, что о нем уже и речи быть не может, н – нужды нет, что в основе такого сдвижения лежит petitio principii. Я решительно становлюсь на сторону лиц, считающих введение сознательно-психического в круг биологических вопросов принципиально неправильным приемом, который кроме путаницы ничего принести не может. Подобный прием просто выводит биолога за пределы компетенции его специальности и заставляет успокаиваться на таких законностях, которые для него, как биолога, не существуют. Сознательно психическая жизнь известна нам только по личному опыту, перенесение её на других животных происходит путем ряда умозаключений, при чем, чем ниже спускаемся мы по лестнице животного царства, тем вопрос становится темнее и неяснее. И при всем том возможность ощущений не может быть исключена не только в растениях, но даже в телах неорганической природы. Для ученого, смотрящего на сознательное существо со стороны, речь и может идти не о самих ощущениях и их воздействии на молекулы, а только о субстрате, носителе этих ощущений, будь то душа или что-нибудь другое. Развивая этот взгляд, мы необходимо должны придти к признанию существования сил в той или другой форме, которые для меня, их обладателя, являются психическими процессами, например, мы должны признать, вместе с Гартманном, существование нецентральных сил, или вместе с параллелистами довольствоваться обычными центральными силами, или, наконец, представить их еще иным образом. И эти силы или адекватные им представления входят в область биологии, да не только в нее, а и в область физики, так как, отклоняя путь молекулы или электрона, хотя бы в равнопотенциальной поверхности, они не могут быть безразличными для физика. Предполагать, что физика и химия занимаются одной неорганической природой, совершенно неправильно, – они исследуют общие законности вещества и его движения, где бы они ни происходили, во всей доступной органам чувств природе. И воздействие духовной субстанции на траекторию молекулы может составить предмет исследования именно физика, никого другого. Выделяя сознательно психическое из области точных и биологических наук, нам остается предоставить рассмотрение вопроса о связи сознания с видимым миром наукам философским: теории познания, как рекомендует напр., Эдм. Кениг, или натурфилософии. А в таком случае целый ряд виталистических доказательств, основанных на сознательности поступков человека и животных, получает иной, менее решительный характер. Сводя вместе слабые пункты виталистической критики, можно сказать, что они заключаются: 1) в произвольном сужении законностей неорганического мира, 2) в перенесении центра тяжести вопроса на доказательство положения «организм не машина», положения далеко не существенного, 3) в произвольном расширении компетенции биологии путем внесения в неё сознательно-психического элемента. Тот, кто согласится с этим, должен будет признать, что неовитализм, разрушая ходячий механизм в его временных проявлениях, не касается многих корней механистического воззрения на жизнь и оставляет вопрос открытым. С другой стороны, резкие, разрывающие все связи с прошлым формы, в которых отливается виталистический «остаток от анализа жизни», выработаны, главным образом, как противовес вульгарному механизму, составляют его антитезу. Рассматривая энтелехии или доминанты per se, как положительные естественнонаучные гипотезы, естествоиспытатель вряд ли получит удовлетворение. Пародируя известное изречение Гегеля, он может воскликнуть: «daran ist naturwissenschaftlich nichts zu erkennen», и потребовать иных более пригодных для научной работы Kunstbegriff'ов. В этом и заключается, по моему убеждению, ближайшая задача научной и автономной биологии: тезис и антитезис должны перейти в высшую форму синтеза. И в основу такого синтеза, на мой взгляд, может быть положено понятие об организме, как о естественном теле или системе. Развитие этой мысли составит предмет второй части исследования.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ.
I.
Ганс Дриш сказал в одной из своих статей: «в естественнонаучном отношении мы живем еще в средних веках». Этот афоризма может показаться на первый взгляд просто красным словцом, но в действительности он совершенно правильно характеризуем целый ряд направлений научной мысли и, прежде всего, способы постановки и решения биологических вопросов. На самом деле, вспомним обычную формулировку коренного вопроса биологии. Она гласит: «что такое жизнь?»; и ответ, который пытаются дать, строится соответственно вопросу: «жизнь есть и т. д...». Не напоминает ли эта попытка схватить сущность чисто абстрактного понятия и выразить его в других более или менее абстрактных терминах типичные приемы средневековой схоластики? Прибавим к этому, что определяемое понятие «жизнь», не есть научный термин, Kunstbegriff, а слово, заимствованное из обиходного лексикона и употребляемое в неодинаковом смысле. Неудобство такого приема, как исходной точки для научных исследований, заключается в том, что он невольно и незаметно толкает мысль на путь гипостазирования понятия. В средние века это привело к спору номиналистов с реалистами, в современной биологии мы видим борьбу, во многом напоминающую этот старый спор, причем позицию реализма отстаивают неовиталисты. И невольно кажется, что в развитие уче- ния о специфическом жизненном агенте формулировка вопроса играет не последнюю роль. Но и помимо этого: все попытки дать определенный ответ на вопрос, что такое жизнь, ведут к более или менее формальному определению, или просто к фразе, непригодность которой очень скоро становится ясной для каждого. Читатель может найти целый ряд таких определений в классических лекциях Клода Бернара по обшей физиологии[10], и, я думаю, небезынтересно будет привести некоторые из них.. Определение Аристотеля гласит: «Жизнь есть питание, рост и одряхлениe, причиной которых служить принцип, имеющий цель в самом себе, энтелехия»[11]. По определению Биша, «жизнь есть совокупность явлений, которые сопротивляются смерти»; Тревиранус определял жизнь как «постоянное однообразие явлений при разнообразии внешних явлений», Ламарк – как «состояние вещей, которое дает возможность органического движения под влиянием возбудителей». Эти определения относятся к самому началу 19-го века, но вот определение Герберта Спенсера, из второй половины 19-го века; «жизнь есть определенная комбинация разнородных изменений, одновременных и последовательных, в соответствии со внешними сосуществованиями и последствиями». Сам Клод Бернар пополняет собранные им определения двумя блестящими и получившими широкую известность афоризмами: «жизнь есть созидание», «жизнь есть смерть». Ни одно из многочисленных определений жизни, дававшихся в разные времена учеными различных направлений не получило права гражданства в науке, но иначе и быть не может. Если бы мы захотели таким же точно путем определить сущность паровоза, абстрагировать его «virtus locomotiva», то, вероятно, этот совершенно ясный механизм предстал бы перед нами в новом и странном освещении. Но если мы не можем точно определить жизнь, всякий понимает, что мы обозначаем этим словом совокупность свойстви проявлений, присущих определенным телам, которые являются её носителями. Геолог может говорить о жизни земли, минералог о жизни кристалла, употребляя этот термин в переносном смысле; для биологии, которая одна употребляет его в прямом смысле, носителем жизни является вполне определенный класс тел – живые существа или организмы. Не вещество, как утверждают некоторые ученые с первой же строчки[12], упуская из виду, что подобное утверждение сразу предрешает многое и нуждается еще в доказательстве, а именно тело или существо. А поэтому настоящая наука о жизни, общая биология, может быть только теорий организмов. Это прекрасно понял Вилгельм Ру, основатель «механики развитая», и в своей недавней программе[13] вместо обычного определения жизни он определяет живое существо. II. Пытаясь ближе уяснить себе сущность организмов или живых существ, мы найдем прежде всего, что организмы относятся к более широкому разряду естественных тел, или систем. Такой прием определения был широко распространен у старых авторов, откуда перешел в элементарные учебники естествознания; в научной литературе последнего времени мы встречаем его редко (В. Ру). Знаменитый в свое время Блюменбах в «Учебнике естественной истории», вышедшем в конце 18-ro века и выдержавшем большое количество изданий, пишет о естественных телах следующим образом. «§ 1 Все тела, находящиеся на поверхности нашей земли или внутри её, являют себя или в том самом виде и свойствах, какие они приняли из рук Творца и получили благодаря действию предоставленных самим себе естественных сил, или так, как изменили и переделали их люди и животные для определенных целей или как изменил их простой случай. На этом различии основывается известное подразделение тел на естественные (naturalia) и приготовленные искусственным путем (artefacta). Первая составляет предмет естественной истории»[14]. Это определение верно указывает на характерное свойство естественных тел: самостоятельность их возникновения, путем действия сил, присущих их частям, но оно грешит некоторой узостью. Само собой понятно, что к категории естественных тел относятся не только тела на и под землею – облака, капли, кристаллы, организмы, но и сама земля и все небесные тела. Куда бы мы ни взглянули, мы видим или естественные тела, или обломки их, или то или иное их сочетание. Когда говорят: «организм представляет из себя естественное тело», то на этом положении долго не останавливаются, так как оно представляется просто общей фразой. Между тем для правильной постановки теории организмов этот вопрос имеет первостепенное значение: прежде чем определять свойства, присущие организму как таковому, мы должны выяснить свойства, общие ему с другими естественными телами. ___________________________________ Как возникает в нас понятие о теле вообще, гносеологический и психологический анализ этого процесса совершенно выходит из рамок нашей задачи. Для нас естественное тело есть нечто данное в повседневном опыте и в своих общих чертах знакомое. Нам необходимо только определить его свойства более точно и научно, а на этом пути нам невольно приходится натолкнуться на вопрос: какие науки должны заниматься и занимаются рассмотрением естественных тел? В прежнее время существовала одна наука, ставившая себе задачей изучение всех естественных тел; она носила название естественной истории. Но это время давно прошло: совокупность фактов, относящихся к естественным телам разрослась до такой степени, что сделалось не под силу вместить их в один труд, излагать одному человеку. Последнюю попытку в этом роде представляет «Космос» Александра Гумбольдта. Теперь естественная история распалась на множество отдельных дисциплин, изучением каждого естественного тела занимается несколько наук, каждая наука дробится в свою очередь на отделы, требующие особых специалистов и т. д. Несомненно, такое разделение научного труда является крайне плодотворным для развитая наших знаний о природе и необходимым по существу дела, но, к сожалению, общие, руководящие точки зрения, имеющие силу для всех дисциплин естественной истории, отступают при этом на задний план. Специалист, выросший и состарившийся в родной лаборатории или музее, подвергается таким образом опасности потерять из виду понимание целого и истинную оценку своего рабочего метода. Старинное название «естественная история» вполне отчетливо выражало одно очень важное для научной методики обстоятельство; оно показывало, что в учении о естественных телах соединяются два приема или метода изучения: естественнонаучный и исторический. Одной своей стороной естественная история примыкает и опирается на общие науки о веществе и силах: механику, физику и химию, с другой стороны она изучает тела с точки зрения их изменений во времени, как исторические процессы. В имеющихся теперь налицо отдельных дисциплинах или проводится какая-нибудь одна точка зрения или смешиваются обе, не всегда достаточно ясно разграничиваясь друг от друга. Такая двойная точка зрения имеет громадное значение для уяснения себе естественных тел в полном их объеме. Для каждого естествоиспытателя в высшей степени важно отдавать себе полный отчет, где кончается естествознание и начинается история, а также, какое значение имеют они в отдельности при изучении природы. Но такое понимание, как всякий знает, встречается не особенно часто. И виною этому является не столько индиферентизм естествоиспытателей, сколько недостаточная разработка и спутанность понятия о естественнонаучном и историческом, господствовавшая даже среди философов, психологов и историков, специально занимавшихся вопросами научной методики. Дело доходило не раз до попытки подвести историю целиком под категорию естественных наук, найти исторические законы, подобные естественнонаучным. И впервые у Виндельбанда и Риккерта мы находим совершенно ясное, отчетливое разграничение естественных наук и истории как двух типов нашего познания, вполне различных по своей логической структуре. Книга немецкого профессора Генриха Риккерта, ученика Виндельбанда, переведенная на русский язык под заглавием: «Границы образования естественнонаучных понятий. – Логическое введение в исторические науки». СПб. 1904, является трудом капитальной важности, – я сказал бы даже, – заслуживает, быть настольной книгой всякого естествоиспытателя, желающего осмыслить результаты, полученные за своим рабочим столом. И, если даже не вполне соглашаться с взглядами автора на естествознание (напечатано – ествознание – С.Ч.) и оставлять открытым вопрос о сведении естествознания и истории к более глубокому единству – надо все-таки сознаться, что исходные точки намечены у Риккерта необыкновенно ясно и помогают разобраться в одном из трудных вопросов. Я позволю ce6е немного остановиться на этом замечательном труд. Задачей науки является, по Риккерту, «преодоление бесконечного многообразия мира». Мир так, как он есть, бесконечно разнообразен, он не имеет для нас начала во времени, достижимого предала в пространстве и является в виде бесконечного множества отдельных форм и процессов. Охватить все это многообразие умом, дать точное «отображение» мира человеческий интеллект не способен, не способна к этому и наука. Её задача – сделать возможным познание действительности путем упрощения её, путем приведения её в такую форму, что она становится «обозримой», одним словом – преодоление многообразия. В целях упрощения ум человеческий пользуется всегда одним приемом: он образует понятия. С подобным взглядом нам уже пришлось встретиться при изложении учения Дриша: в правильном образовании понятия и Дриш видит первую задачу науки. Задача познания мира во всей его совокупности выполняется двумя основными науками: естествознанием и историей. Отсюда именно начинаются оригинальные взгляды Риккерта. Он доказываете, что логическое построение этих основных наук различно, так как понятия, образуемые естествознанием и историей совершенно иные. В обычной логике мы такого разграничения не находим, но это потому, что школьная логика со времен Аристотеля, в сущности говоря, логика естественных наук, и её теория построения понятия имеет своим образцом естествознание. Понятия, которые являются пригодными для естественнонаучной обработки мира, должны удовлетворять известным требованиям. В их основу нередко кладутся понятия, заимствованный из обыденной жизни (например «животное», «растение»), но в таком случай они должны подвергнуться переработке. Логически пригодное понятие должно быть определенным, это значит, его можно вполне выразить помощью одного или нескольких суждений; оно должно быть общим, т. е. быть применимым к известного рода формам и явлениям независимо от места и времени, наконец, необходимым или, выражаясь точнее, общеобязательным. Формируя логическое понятие вещи или отношения, мы умышленно изгоняем из него целый ряд данных, воспринимаемых нами в непосредственном опыте, оставляем в стороне временные, местные отношения, все индивидуальное, т. е. совершаем абстракцию. Если разложить известные научные понятия отношений в суждение, мы получим так называемые законы природы, которые представляют из себя, таким образом, иной способ выражения общих, определенных и общеобязательных понятий. Следуя неуклонно по пути упрощения, наука создает все более и более общие понятие и законы, а вместе с тем все больше суживается разнообразие тех действительных вещей и отношений, которые она кладет в основу понимания мира. И, постепенно, все мировые процессы, сводятся в глазах естествознания к одному процессу движения, а все разнообразие веществ к одному основному веществу – эфиру. Немалую помощь на этом пути оказывают науки математические: с их помощью многообразие явлений переводится на многообразие чисел и отношений. В точных науках совершается почти полный переход естествознания в математику, переход вполне возможный, так как логические основы их друг другу не противоречат. Такова структура естественных наук, хорошо знакомая каждому, так как основные особенности их выяснялись много раз. Характерным является здесь отвлечение от непосредственно данного, выражение его при помощи общих понятий и законов. Как это ни звучит парадоксально, но эмпирическая действительность в наиболее разработанных отделах естествознания совершенно исчезает, исчезает представление о процессах, совершающихся в известном месте и времени, остаются только ряды конструкций или символов и математических отношений между ними. Ясно, что одна такая наука не можете удовлетворить запросам человека. Ведь и то, что действительно существует, что происходило и происходить в своих индивидуальных особенностях, представляет немалый интерес для человеческой мысли. Изучать все это —процессы, происходящее в определенном месте и времени, которые раз были и больше не повторятся – призваны науки исторические. Как и естествознание, история не может дать исчерпывающего отображения того, что происходит в действительности; она также упрощает свою задачу при помощи понятия, но только понятия её совершенно иные, особой логической конструкции. В этом, по мнению Риккерта, её характерная особенность, а не в том, что исторические науки – науки о духе, а естественные – науки о материи, как думают многие; сама психология по своей логической структуре и задачам относится к естествознанию. Таким образом эмпирическую действительность можно изучать с двух точек зрения: «она становится природой, коль скоро мы рассматриваем ее таким образом, что при этом имеется ввиду общее, – историй, когда имеется в виду частное». Отсюда вытекает, что законов истории в том смысле, как мы понимаем слово закон в естествознании, быть не может, это contradictio in adjecto. Основным понятием истории является понятие «историческаго индивидуума»; это представление об известном лице (Гете), предмете (лист березы, который я сорвал) или явления (землетрясение в Лиссабоне), конструированное особым образом, в виду известной цели. Когда, например, мы говорим о Гете, мы имеем в виду не анатомическое строение его внутренних органов, а его произведения и то, что так или иначе имеет к ним отношение. Исторический индивидуум, как выражается Риккерт, есть «индивидуум относимый к известной ценности», поэтому историческое образование понятие является по существу телеологическим. Установив понятия тех или иных исторических индивидуумов, наука должна связать полученные ряды в одно более общее целое, в процесс, т.е. установить «историческую связь». Таким же путем связываются между собой и отдельные процессы. Руководящим принципом служит для этого более широкое понятие «исторического развития». Как и все остальные исторические понятия, «развитие» также связывается с известной ценностью; мы выбираем известные стороны явлений, их исходную и конечную точки, пользуясь известным критерием и отбрасывая все, не представляющее для нас в настоящее время интереса. Только таким путем может быть достигнуто обозрение бесконечно сложной эмпирической действительности. Конечно, история, как наука, должна выработать такие ценности, которые были бы общеобязательными, только тогда ее понятия будут лишены произвола; в установление этих необходимых ценностей лежит главная трудность дела, и здесь вряд ли возможно обойтись без участия метафизики. На этом вопросе однако мы не будем останавливаться, так как для нас он не особенно важен, и перейдем к пункту, имеющему прямое отношение к нашей теме. Хотя логическая структура естествознания и истории совершенно различна, в современных науках естественнонаучное и историческое часто бывает слито в одно целое. Мы имеем целый ряд исторических элементов в естествознания, как его необходимую составную часть. Их можно найти и в физике и в химии, но больше всего конечно в биологии; достаточно упомянуть о палеонтологии, о родословном дереве организмов, о происхождении человека. Такая книга как «Natürliche Schöpfungsgeschichte» Геккеля представляет из себя чистейшую историческую биологию. Но и в самом учении о жизни нам постоянно приходится наталкиваться на такие черты эмпирической действительности, которые всецело выходят за пределы естествознания, так как объяснимы лишь исторически. Легко понять, какие недоразумения могут возникать на этой почве, и Риккерт вполне справедливо указывает на смешение двух различных методов, как на одну из главных причин разногласия между виталистами и механистами. Таким образом поставленный нами в начале главы вопрос: «какие науки занимаются изучением естественных тел?», получает в труде Риккерта совершенно определенное освещение. Все естественные тела составляют предмет изучения как естествознания, так и истории. В отдельных существующих науках – безразлично, сколько бы их ни было – эти точки зрения могут быть перемешаны, но мы должны стремиться яснее разграничивать их, так как методика естествознания, его логи- ческая структура совершенно иные, чем в истории. Имея в виду эту коренную противоположность, мы можем избежать в естествознании постановки вопросов, неразрешимых с его методами, попросту сказать, для него не существующих. III. За последнее время мы встречаем в литературе две крайне интересные попытки применить к изучению живых существ исключительно одну точку зрения, доказать, что их истинное понимание возможно только путем естествознания или путем истории. Вместе взятые они служат прекрасной иллюстрацией к учению Риккерта. Первый взгляд был высказан Дришем. Ополчась против теории Дарвина, Дриш объявил войну всему историческому в биологии, считая его совершенно излишним и ненаучным. Все филогенетические рассуждения могут создать только родословное древо, галерею семейных портретов – к чему они? Настоящая научная биология должна найти законы, для нее интересен вопрос, какие причины могут вызвать то или иное изменение формы, а не каковы предки того или другого животного. Поэтому большинство современных понятий в биологии образовано совершенно неправильно и ненаучно: это понятия собирательные (т.е. в них слишком много исторического, так как собирательное понятие близко к «историческому индивидууму» Риккерта); биология же должна анализировать явления, доходить до элементов, строить свои «искусственные понятия» и устанавливать между ними. Закономерную зависимость. Ясно, что идеал Дриша – чистая естественнонаучная биология. Мы видели уже, как Дриш применяет этот метод на практике для доказательства витализма. Правда, в последнем доказательств к которому он пришел в 1903 году на сцену выступает «исторический базис реакции», но Дриш пользуется этим понятием с естественнонаучной точки зрения. Совершенно противоположное направление встречаем мы у Бергсона. Он принципиально отрицает возможность понять живые существа с помощью тех методов, которые положены в основу точных наук, методов «геометрических», как он их называет. Но, считая такие методы единственно науч- ными, единственно присущими человеческому интеллекту, Бергсон принужден, конечно, констатировать банкротство науки в деле объяснения жизни и призывает на помощь «непосредственное проникновение» – интуицию. То, что заставляет его скептически относиться к научному (= естественнонаучному) методу, коренится в невозможности при его посредстве познавать действительно происходящие изменения жизни: указанный метод оперирует с абстрактными понятиями времени, с математическим t, тогда как на самом деле важно абсолютное время, протекшее от начала жизни, ее длительность, «duréе», которая накладывает определенный отпечаток на все живое. Точно также наука не в состоянии осмыслить эволюцию жизни, ее пути, изгибы и разветвления; они для нее «непредвидимы», как продукты свободного творчества. Уже из того немногого, что приведено здесь, нетрудно увидеть, что метод познания, который, по мнению Бергсона, должен восполнить недочеты научного метода, в сущности очень близок к историческому методу Риккерта. Действительно, «duréе réelle», определяющая состояние живого существа в данный момент, должна войти, как необходимая составная часть, в характеристику исторического индивидуума. И совершенно бесплодно пытаться, оставаясь на почве чистого естествознания, открыть законы появления новых форм, это были бы те же «исторические законы», невозможность которых доказывается Риккертом. Интуиция, к которой прибегает французский философ, как к ultimum refugium, не должна нас смущать: если отделить от нее ее мистическую половину, а остальное перевести на трезвый школьный язык, в ней нетрудно будет признать много общих черт с «исторической логикой», тем более, что последняя сама не чужда метафизике. Бергсон считает, например, человеческое интуитивное знание слабым проблеском того инстинкта, который так пышно развился у некоторых членистоногих; но инстинкт он определяет как непосредственное знание вещей, той эмпирической действительности, которая по Риккерту недоступна естествознанию и подлежит другой логической обработке. При чтении книги Бергсона родство его взглядов с Риккертом выступает необыкновенно ясно но, по-видимому, французский философ не считался с трудом своего немецкого коллеги; он шел вполне самобытным путем. Одинаковы были их исходные точки – признание недостаточности естественнонаучной логики (Бергсон отождествляет ее с логикой вообще), и этим объясняется остальное. По выходе «Творческой эволюции», Дриш один из первых заговорил о ней. Он напечатал подробный реферат [15]), в котором обращает внимание своих соотечественников на Бергсона – «философа биолога», «выдающегося человека». Вся статья, написанная в крайне сочувственном тоне, невольно вызывает на размышление: что же это значит? Поход в Каноссу? Очевидно, Риккерт прав; чистое естествознание само по себе недостаточно для понимания действительности, и, доводя до конца какую-нибудь одну точку зрения, мы незаметно приходим к другой, ей противоположной.
IV.
Труд Бергсона поучителен для нас еще в одном отношении. Он представляет из себя настойчивую попытку доказать, что интуитивный метод познавания, который мы считаем эквивалентом исторического метода Риккерта, приложим только к познанию живых существ. Везде, где только можно, Бергсон проводит резкую разницу между мертвой материей (matiére brute), подчиняющейся законам механики, и живыми существами: «Durée rêelle» имеет значение только для последних, и разве для всего мира, «tout». На разнице познавания зиждется, главным образом, и его витализм. Именно, Бергсон предполагает, что способ познания должен соответствовать объекту познания, что не только метафизика определяется гносеологией, но и обратно: та или иная сущность явления требует соответствующей теории познания. Здесь происходит, выражаясь языком индусской философии, слияние познающего с познаваемым. А так как жизнь невозможно охватить геометрической логикой интеллекта, то она есть, по своей природе, нечто совершенно особое. В сравнении с мертвой материей жизненный поток обладает особой силой: распространяться, захватывать, прогрессировать. Как будто в начале создания живому веществу сообщен был особый импульс, толчок – «elan», как называет его Бергсон, и этот толчок продолжает действовать беспрерывно, не только не ослабевая со временем, но, наоборот, усиливаясь. Вряд ли можно оспаривать, что мысли Бергсона имеют глубокие корни, следует обратить внимание только на то, как легко переоценить значение этого «elan» для понимания живых существ. Жизнь развивается; она имеет историю и не может быть вполне уяснена без знания истории, это верно; но ведь так же развивается, так же имеет свою историю и «мертвая природа», все частные естественные системы, из которых она слагается. Параллельно с ростом и развитием организмов идет развитие земного шара, его атмосферы, морей; условия существования солнечной системы, количество энергии, выбрасываемой солнцем, также изменяются. Если мы стареем, то стареет и наша земля, и те химические соединения, те минералы, которые она производила на заре своего существования, вновь уже не образуются, они только распадаются. Подобно Прейеру и некоторым другим биологам, Бергсон рассматривает все живое как один гигантский развивающийся индивидуум — в pendant к этому можно также смотреть на всю совокупность воды, находящейся на земном шаре, имея в виду, конечно, не абстрактное Н2О, а жидкость, пар или лед с его меняющимся составом. Химические свойства морской воды несомненно не те, что были прежде; капли дождя, падающие теперь, должны разниться от тех, которые падали в палеозойскую эпоху, так как состав атмосферы изменился и т. д., и т. д. «Durée réelle» имеет полное значение не только для живых существ, но и для всех естественных тел, включая сюда даже атомы, которые, по воззрению современной физики, подвергаются эволюции. Поскольку развитие жизненных форм идет в силу внутренних автономных импульсов, поскольку в них участвуют изменения окружающих естественных тел — это вопрос, который во многом еще не выяснен и который нельзя ставить краеугольным камнем биологии. Выдающийся палеонтолог Штейнманн в своем труде «Geoloigsche Grundlagen der Abstammungslehre. 1908», приводит много примеров тому, как однородные изменения начинали появляться одновременно у многих живых существ, отличных друг от друга по организации и не состоящих между собой в родстве. Таким путем появлялись сходные изменения в раковинах моллюсков, совершался переход споровых растении в цветковые, и, по-видимому, шло развитее млекопитающих из низших холоднокровных форм. Причиной таких одновременных массовых изменений могло быть только изменение окружающей среды, а это указывает на тесную связь и параллелизм в развитии разнородных естественных систем. Если изменения живых существ более быстры, интенсивны и более привлекают к себе внимание, то это не говорит еще в пользу их принципиального отличия и невозможности трактовать все естественные системы с общей точки зрения. Вообще, ходячее представление о мертвой "материи", одинаковости и повторяемости ее процессов есть только физическая абстракция, необходимая для целей самой науки, но недостаточная при изучении действительности. Что это сознают и лучшие представители физики, доказывает недавняя речь берлинского профессора Планка: «Die Einheit des physikalischen Weltbildes. 1909». Указав, что в будущем основным подразделением физических процессов будет обратимость или необратимость их, Планк делает многозначительное добавление. «Обратимые процессы», говорит он, «имеют тот недостаток, что они все (samt und sonders) идеальны; в действительной природе не происходит ни одного обратимого процесса» (стр. 18). Если мы прибавим к этому, что и вообще «материя» в действительности не существуете, что мы встречаем ее лишь как материал той или иной естественной системы, то необходимость, для более глубокого понимания тел, считаться с их историей, выступит с полной ясностью. Такой исторический индивидуум, как та планета, на которой мы живем, изучается в историческом отношении очень усердно, доказательством чему служить особая наука, историческая геология; но мы имеем данные, позволяющие заключить, что даже такие, по-видимому однородные, тела, как капли и кристаллы различных веществ, при желании могут с успехом служить объектом исторического изучения. Для доказательства я позволю сослаться на работы Бахметьева, профессора физики Софийского университета. Они относятся к специальному вопросу, застыванию переохлажденных капель нитротолуола
[16]). Суть их, в немногих словах, такова. Бахметьев помещал в воду капли расплавленного p-нитротолуола, вещества с химической стороны вполне известного, и определял температуру, при которой они застывают. В этот момент прозрачная капля превращается в твердый шарик и падает на дно, таким образом температура застывания может быть определена вполне точно. Следует заметить, что температура застывания или плавления, что одно и то же, считается постоянной для определенного химического соединения и, в качестве константы, служит для его характеристики. Можно переохладить вещество, задержать его отвердение, но опять таки до температуры, которая, при прочих равных условиях, будет постоянной. Капли, в опытах Бахметьева, брались определенной величины, условия, в которых они находились во время переохлаждения, были одинаковы, и, тем не менее, результаты получились совершенно неожиданные: в температуре застывания отдельных капель оказалось громадное различие. Один взгляд на чертежи, приложенные к работе Бахметьева, сразу показывает это. Есть капли, застывающие при t° 460, и другие при t° 240, т.е. разница в t° застывания достигает 22 градусов! Между этими крайними пунктами застывают остальные капли, но нет двух капель тождественных. Разницу полученных результатов нельзя объяснить неодинаковостью внешних условий; она превышает также возможные погрешности опыта и должна быть отнесена на счет индивидуальности капель. Рассматривая подробные таблицы, легко убедиться, что вблизи известных температур, застывает большее количество капель, что застывание происходит как бы периодами. Это соответствует ранее полученным данным Таманна о периодичности появления кристаллических зародышей в течение процесса кристаллизации; но тем не менее того полного единообразия, которого мы в праве ожидать от простого вещества, не получается. Не ограничиваясь одним этим, Бахметьев производил отбор капель. Собирая те, которые застывают вблизи известной t°, он сплавлял их и вновь определял t° застывания капель, полученных из этой порции. При этом между различными порциями оказывалась известная разница, но она по-прежнему сопровождалась индивидуальными колебаниями. Тщательные исследования проф. Бахметьева имеют большое принципиальное значение. И конечно, не для физики и химии в их современной постановке, так как для химии не особенно важно, существуют ли шесть или более модификации нитротолуола, а для физики периодичность в появлении кристаллических зародышей была уже установлена ранее. Но эти работы представляют из себя первую попытку проникнуть в более детальное изучение тех естественных тел (капель), которые мы привыкли трактовать с обычной физико-химической точки зрения, как однородное вещество известного состояния агрегации. Капли дождя падают одна за другой, стучат в крышу, расплываются, сливаются и исчезают. Для нас они все одинаковы: «как две капли воды», говорим мы, желая обозначить высшую степень сходства. Исследования Бахметьева говорят: нет. Присмотритесь ближе к ним, изучите их в отдельности и вы найдете, что вряд ли есть две вполне схожие. Капли такие же индивидуумы с их бесконечным разнообразием физиономии, какие мы привыкли встречать в мире организмов, и соответственно своей индивидуальности дают различные ответы на воздействия внешней среды. Сравнение капель с организмами проведено самим Бахметьевым во второй статье; интересно отметить, что толчок к изучению переохлаждения простых жидкостей дали его предшествовавшие работы о переохлаждении соков внутри организма (t° замерзания бабочек). Другой пример может доставить нам форма твердых естественных тел – снежинок. Замерзая, вода кристаллизуется в гексагональной системе, в виде шестиугольных табличек или призм. Но снежинка имеет более сложную форму, она представляет из себя сросток кристаллов. Относительно формы снежинок обычно в литературе приводится мало указаний, так как и работ по этому вопросу немного. Только в книге Вейнберга[17]) можно найти сводку всех результатов по этому вопросу. Они поразительны. Описанные и сфотографированные формы снежинок можно разделить приблизительно на 50 типов, обращая внимание на кристаллографические особенности. Но и в пределах одного типа нет двух сходных форм: каждая снежинка есть особый, не повторяющийся индивидуум. Таким образом, нет никаких оснований для проведения принципиального различия между миром живых тел и так называемой мертвой природы, как это делает Бергсон. Границы отдельных наук нельзя считать за границы эмпирической действительности. Все естественные тела с известной точки зрения подобны друг другу: они допускают естественнонаучное и историческое трактование. И если существует на самом деле интуиция, как непосредственное проникновение в предметы и явления видимого мира, то она не ограничивается нашими ближайшими родственниками – организмами, а должна распространяться и на всю природу, как об этом учил великий натурфилософ Шопенгауэр. V.
После этого длинного, но необходимого в методологическом отношении отступления, мы можем возвратиться к учению об организмах. Само собой разумеется, теория организма является, в согласии с идеалом Дриша, наукой естественной по преимуществу; историческое имеет для нее значение главным образом как предел ее компетенции. Пытаясь в дальнейшем набросать пути, которыми, по моему мнению, могла бы следовать теория организмов, я прошу читателя, в избежание недоразумений, заранее иметь в виду, что я не претендую на создание сколько-нибудь разработанной теории. Все нижеследующее есть просто набросок, возможная программа – и только. Рассматривая организмы как один из видов обширного рода естественных тел, мы можем считать этот прием правильным и плодотворным лишь в том случае, если между организмами и прочими телами обнаруживается ряд свойств, существенно важных для их характеристики, если сведения, которые мы имеем о каплях, кристаллах и т. д. могут оказать нам услугу при создании теории организмов. Мне кажется, что на это мы можем рассчитывать. Подготовительные работы в этом направлении начаты уже давно: некоторые биологи с интересом изучают явления неорганического мира в надежде воспользоваться ими для целей своей науки; достаточно назвать имена Раубера, Румблера, Пжибрама. В сводках, сделанных двумя последними авторами[18]), можно найти всю относящуюся сюда литературу. Из физиков Леман, пораженный сходством своих жидких кристаллов с живыми существами, придает этому явлению большое значение для уяснения организмов. Фишель в одной из специальных работ над яйцами ктенофор намечает взгляд на организм как на систему, во многом близкий к развиваемым здесь. Но в то время как одни ученые считают аналогии между каплями, кристаллами и организмами идущими так далеко, что надеются получить при их помощи объяснение чуть ли не всех явлений жизни, другие – обращая главное внимание на существующие различия, – считают проведение подобных аналогий праздной игрой ума. К последней категории принадлежат, конечно, виталисты. Если они и начинают говорить о кристаллах, то только для того, чтобы, показать их коренное различие от организмов, выдвигая иногда в качестве тяжелого орудия критерии одушевленности (Рейнке). На тонкие сопоставления регенераций кристаллов и организмов, сделанные Пжибрамом, который доказывает, что выводы. Дриша должны распространяться и на кристаллы, Дриш отвечает указанием на бесполезность общих аналогий. Таким путем, по его мнению, можно доказать все, что угодно. Аргумент подавляющий, но сила его немного ослабляется тем, что, вообще говоря, ничто не спасает от софистики, и аналитически метод самого Дриша в искусных руках .может привести к тем же последствиям. Мне кажется, что истина, как это часто бывает, лежит посредине между обеими крайностями. Ясно, что организм не кристалл и не капля какого-нибудь вещества, но, с другой стороны, существующие аналогии настолько интересны, что пренебрегать ими нельзя, и при осторожном пользовании они могут служить прекрасным эвристическим принципом. Такое суждение налагает на нас обязанность заняться выяснением свойств, общих организмам и другим естественным телам. Мы должны вступить, таким образом, на путь, проложенный знаменитым английским мыслителем Спенсером, который ясно видел единство всех систем мира, понимая слово система в самом широком смысле, и изложил общие принципы их эволюции в первом томе своей синтетической философии – «Основных началах». В качестве конкретных примеров естественных тел, я прошу иметь в виду какое-нибудь небесное тело, каплю воды, кристалл любого вещества, газовую молекулу и т. д. Вот что получится, если сопоставить главнейшие свойства всех этих тел. I) Естественные тела представляют из себя более или менее сложные системы, т.е. образования, составленные из отдельных частей, связанных в одно целое силами, принадлежащими самим частям. Обнаружить это возможно двояким путем: или наблюдая образование системы или разлагая систему при помощи особых приемов. В том и другом случае части, составляющие систему, оказываются в свою очередь системами. Как далеко может идти подобный анализ? Современная наука доказывает сложный состав атомов, которых до последнего времени можно было считать образованиями простыми, и оставляет в качестве самых простых, неподдающихся пока разложению, одни лишь электроны. Следует заметить, что теоретические рассуждения, доведенные до крайних пределов еще Лейбницем, давно указывали на сложность частей, принимаемых за элементарные; мало того, они доказывают, что в нашем разложении мы никогда не дойдем до конца, т.е. никогда не перестанем ощущать необходимости в более простых элементах. Систему можно расчленять на части различного порядка, это зависит от точки зрения, с которой мы желаем ее изучать: для физика интересны составляющие систему молекулы, химик желает разложить и самые молекулы на атомы, геолог обращает внимание на пласты, астроном может принять всю планету за точку. Такое подразделение может быть и искусственным, т.е. просто нужным для известной цели приемом, в этом случае составные части не могут существовать или не существовали сами по себе. Для общего учения о естественных телах, такое деление, конечно, не представляет интереса. Мы говорим, что естественная система образуется при участии сил, свойственных системам-частям; здесь мы сталкиваемся с коренным и труднейшим вопросом всего учения: как из соединения многих индивидуальных систем получается вновь система-индивидуум? Прежде всего с этим вопросом столкнулись химики: свойства молекул водорода и кислорода исчезают при соединении их в молекулу воды, вместо них появляется нечто новое и единое. Впоследствии оказалось, что в сложных молекулах некоторые свойства частей могут сохраняться и как бы просвечивать из-за свойств целого, это привело Оствальда к учению об аддитивных и конститутивных свойствах молекул. Но, в сущности говоря, этот вопрос – часть более общего вопроса, относящегося не только к молекулам, но и ко всем естественным телам. Капля воды, кристалл льда представляют из себя нечто большее, чем сумму сближенных газовых молекул, это целое единое, точно также и многоклеточный организм есть единое целое, во многом подобное тем единицам-клеткам, из которых он составляется. Не входя в детальное рассмотрение поставленного общего вопроса, я позволю себе указать, что при попытках его углубления нельзя так резко разграничивать физические и химические процессы, как это обычно делают, считая связи, проявляющиеся в капле или кристалле чисто физическими, а в молекуле – химическими. Я сошлюсь в этом отношении на физиков, которые считают возможным признавать в жидкости особые «жидкие» молекулы, построенные, например, для воды, по типу nН2О. Весьма вероятно, что при изучении систем в целом, связи, существующие между их частями, выступят перед нами в ином свете и позволят лучше понять тот единый принцип конструкции, который выступает пока голым фактом. Здесь приходится снова обратить внимание на один пункт, о котором уже шла речь в первой части. Изучение большинства естественных тел выходит из рамок физики и химии. Эти науки исследуют главным образом общие свойства вещества и процессы в нем, оставляя изучение тел, как таковых, осо- бым дисциплинам, которые с точки зрения физики и химии являются прикладными. Так, например, учение о газовых шарах было изложено систематически, в связи с вопросами метеорологии и астрономии, лишь недавно. Учение о каплях нигде систематически не излагается, хотя отдельные главы его и служили предметом исследования физиков, но их интересует капля главным образом как иллюстрация общих законов поверхности, а не сама по себе. Кристаллы составляют достояние отдельной науки, физик же знает лишь кристаллическое состояние вещества и т. д. Только недоступные глазу молекулы, гипотетические атомы и корпускулы относятся всецело к области физики и химии. Нельзя отрицать, что кинетическая теория газов, стехиометрические законы химии, явления электролиза и радиоактивности доставляют веские основания для признания этих невидимых единиц за естественные тела – индивидуумы, но то универсальное применение, которое пытаются сделать из них, полагая, что их одних достаточно для понимания природы, представляет из себя непозволительный прием упрощения действительности. Все это важно помнить, чтобы не предъявлять к физике и химии таких запросов, на которые они, по сложившемуся порядку, не могут отвечать. 2) Естественные тела кажутся нам всегда более или менее резко отграниченными от окружающего мира, если составляющие их части малы и находятся на небольших расстояниях друг от друга, мы можем говорить о поверхности тела в геометрическом смысле (поверхность земли, облака, капли). В действительности, непрерывной поверхности ни одна сложная система не имеет, так как между поверхностными частями постоянно проходят снаружи внутрь и изнутри наружу отдельные части – того же порядка, как ближайшие составные части естественного тела или меньшие. Признавая поверхностный слой тела за геометрическую поверхность, мы тем самым даем телу известную геометрическую форму. Форма естественного тела обыкновенно прежде всего привлекает к себе внимание и является первой ступенью его изучения. Объяснить с естественнонаучной точки зрения форму тела, понять, почему именно кристалл поваренной соли имеет вид куба, планета Сатурн свои кольца, а лягушка две пары конечностей – невозможно. Если мы будем ссылаться на форму частей, то будем лишь отодвигать вопрос, не решая его. В каждом естественном теле существует та «видовая специфичность», которая входит, как одна из составных частей в «энтелехию» Дриша; для естествознания она будет «константой», неподдающейся дальнейшему анализу, так как здесь – предел естествознания. Объяснение формы возможно лишь путем истории. Задача естествознания в деле изучения форм, заключается, во-1-х, в их логической классификации, во-2-х, в том, чтобы изучать их изменения и причины изменений. Когда естественное тело помещено в условия, благоприятные для свободного проявления его внутренних сил, т.е., по возможности изолировано от действия внешних систем, оно принимает определенную, свойственную ему форму, которую можно считать нормальной. Для газовых и жидких систем такой является форма шара; для твердых – одна из тридцати двух кристаллических форм. Формы организмов более разнообразны, но их исходной точкой является, по-видимому, шар, из которого пытались вывести большинство сложных органических форм, ограниченных кривыми поверхностями. Сложность и разнообразие органических форм, само по себе, не представляет чего-либо исключительного, достаточно вспомнить те сложные формы, которые образуют кристаллические сростки (напр., узоры льда на стеклах, дерево Сатурна). 3) Ни одно из естественных тел, встречающихся в природе, не является однородным; все они в большей или меньшей степени дифференцированы, анизотропны, в широком смысле этого слова. Иногда части, составляющие систему, имеют различный химический состав, как, напр. , составные части земной коры; тогда дифференцировка прямо бросается в глаза; в других случаях отдельные участки, если их выделить, кажутся одинаковыми, напр., части капли, кристалла. Но и в этих случаях система, как таковая, обнаружит неоднородность, стоит принять во внимание направление движения отдельных частей или направление связей, существующих между ними. Прежде всего, части, расположенные в поверхностном слое, имеют иные свойства, чем расположенные в глубине, уже по одному тому, что они подвергаются различному воздействии с двух сторон, внутренней и внешней. Это в свою очередь должно отражаться на слое, лежащем под поверхностью, отдельные части которого также должны испытывать неодинаковые воздействия и т. д. Физика выработала учение о так называемом поверхностном натяжении, по которому поверхностный слой представляет из себя как бы упругую пленку, сдавливающую массу капли или кристалла. Одно время такое представление считалось чисто фиктивным, перечислением свойств капли в целом на ее поверхность; теперь некоторые физики принимают действительное изменение поверхностного слоя. Как бы там ни было, неоднородность капли остается фактом, даже если оставить без внимания ее центр, свойства которого совершенно не определены. Неоднородность кристалла представляет факт всем известный. Раз в теле существует дифференцировка, процессы перемещения и распределения энергии совершаются по определенным направлениям; линии их распространения можно назвать векторами тела, а самое свойство векториальностью. Векториальность лучше всего изучена в кристаллах и считается их основным и характерным свойством, но, в действительности, она присуща всем естественным телам. Только в кристаллах векторы идут параллельными пучками; в каплях и других телах сферической формы они направляются, вероятно, радиально; в телах сложного строения расположение их конечно будет сложным. Совокупность векторов в связи с пограничными условиями определяет организацию тела. Понятие «организации» не следует смешивать с понятием «структура», как это иногда делают. Организация всегда обозначает распределение частей в целом, тогда как структура – распределение частей в выбранной известным образом части этого целого. Кристаллическая структура наблюдается в любой малой части кристалла, организация только в целом кристалле с его ядром и поверхностью. Физика, изучая вещество, имеет дело главным образом со структурой. Наряду с формой, организация служит главной характеристикой естественного тела, поэтому живые существа, в которых дифференцировка и направления процессов выступают с особой ясностью, и имеют особое право называться организмами. 4) Как бы ни были разнообразны физические и химические процессы, разыгрывающиеся в естественных телах, их мож- но в самом общем виде представить так. Каждое тело получает во время t известное количество энергии, положим, а, и выделяет из себя также известное количество энергии – b; a и b могут быть равны, могут быть неравны; соответственно этому тело будет находиться в состоянии энергетического равновесия, накоплять или терять энергию. Такой процесс прекратится только в том случае, если тело совершенно изолировать от других при абсолютном нуле температуры – случай вряд ли возможный. Детали этого процесса будут крайне разнообразны, в зависимости прежде всего от свойств самого тела. В силу своей неоднородности ни одно естественное тело не может относиться пассивно – если можно так выразиться – к получаемой им энергии. Оно будет ее распределять и выделять в известных направлениях, обусловленных его организацией, одновременно с этим превращая один вид энергии в другой. Поэтому каждое естественное тело является, трансформатором энергии. Луч света, падающий на кристалл исландского шпата раздвояется [так у В.К.]; нагреем кристалл, и он обнаружит вблизи известных граней противоположные заряды электричества; коснемся капли масла кристаллом соды, и капля изменит форму, передвинется и т. д. Эго будет ответ тела, особый для каждого вида. В живых существах трансформация и упорядочение энергии, конечно, сильнее бросаются в глаза, их ответы легче прочесть всякому, но принципиальной разницы между ними и другими естественными телами в этом отношении не существует. если некоторые ученые и теперь не прочь призвать для объяснения ответов организма направляющую жизненную силу, то я напомню, что сами физики, по примеру Максвелла, для уяснения упорядочения движения охотно прибегают к представлению о «демоне», производящем сортировку молекул. Одно другого стоит. На характер процессов, идущих в естественном теле, т.е. на характер его ответа, большое влияние оказывают известные постоянные условия внешней среды и, прежде всего, температура. На этом факте следует остановиться, так как он может осветить некоторые стороны живых существ, кажущиеся исключительными. Известно, что каждая система может существовать лишь в известных температурных пределах. Капля воды, например, существует как таковая лишь при t° от 0 до 100° С.; переход за указанные границы вызывает уничтожение системы капли, ее переход в пар или твердое тело. Для кристаллов мы имеем высшую точку их существования – температуру плавления или возгонки; наша земля с ее твердой корой могла образоваться лишь тогда, когда температура раскаленной газовой массы понизилась до известной степени. Температура испарения или плавления изменяется в зависимости от давления, но существует определенная температура, выше которой, при любом давлении, жидкость переходит в пар или твердое тело в жидкость, эта температура называется критической. Когда стали изучать химические разложения тела под влиянием тепла, т. наз. диссоциации, понятие критической температуры было перенесено и в область химии. Критической температурой диссоциации называется такая температура, выше которой известное соединение, напр., Н2О существовать не может; оно начинает распадаться на составные части – диссоциироваться. В некоторых случаях удается сохранить систему в прежнем виде и по достижении той или иной критической температуры, но в таком случае равновесие системы становится неустойчивым. Я привожу эти общеизвестные факты, чтобы напомнить о влиянии, которое оказывает близость системы к одной из критических температур, на быстроту, интенсивность и характер процессов, протекающих в естественных телах. Многие физические и химические процессы, идущие легко при t°, близкой к критической, с удалением от нее замедляются и даже совершенно прекращаются. Поразительный пример доставляют жидкие кристаллы, изученные за последнее время Леманом и Форлендером. Мы привыкли соединять с кристаллом понятие о твердом теле, почти не изменяющем свою форму, не способном передвигаться или самопроизвольно делиться, и, действительно, при обычной температуре кристаллы не обладают этими свойствами. Их не обнаруживают и кристаллы para-azo-zimt-saureäthylester'a или прочих веществ, изученных Леманом. Но если расплавить эти вещества и затем охлаждать, держа при температуре не особенно удаленной от критической, то они кристаллизуются в совершенно необычной форме – в виде полужидких капель, цилиндриков с закругленными краями, палочек и т. д. Такие «жидкие кристаллы» обладают характерной для кристаллов анизотропией, но в то же время и рядом новых свойств: напр., они могут двигаться, червеобразно изгибаясь, могут сливаться, образуя двойные или тройные формы, могут, наконец, самопроизвольно распадаться на две части – делиться. Оживленные проявления тел, которых мы привыкли видеть неподвижными, «мертвыми», несомненно должны были привести в изумление исследователя, и они выразились в том названии, которое Леман дал им: «scheinbar lebende Kristalle» – кажущиеся живыми кристаллы. Как бы ни относиться к этим формам, несомненно, что близость к критической температуре плавления играет большую роль в характере проявляемых ими процессов; стоит охладить препарат, и живые кристаллы переходят в другие, «мертвые» модификации. Другим примером может служить раскаленное газообразно-жидкое солнце. Мы знаем, что форма его поверхности беспрерывно изменяется; там и здесь выбрасываются протуберанцы, как гигантские псевдоподии; солнечные пятна постоянно образуются и исчезают; корона, каждый раз как ее удается наблюдать, предстает в новом виде. И мы знаем также, какая участь ждет солнце, когда его температура понизится: покрытое твердой корой оно будет изменять свою форму так же медленно, как земля. Несомненно, что и на характер процессов у живых существ имеет большое влияние близость их химических соединений (протоплазмы) к критической температуре распадения. На это обстоятельство обратил особое внимание английский ученый Мартин[19]). Действительно, быстрые изменения формы живых существ, идущий таким скорым темпом обмен энергии и вещества, все, что сообщает организму его «жизненность», возможно только потому, что сложные химически соединения, находясь вблизи критического предела, распадаются под влиянием незначительных раздражении. Для большинства животных и растений критическая температура немного выше 40° С, когда протоплазма окончательно распадается на свои составные части, свертывается; при понижении температуры ниже optimum органические процессы замедляются и замирают, как замирает, напр., лейкоцит человека в капле крови при комнатной температуре. Развивая это простое положение, истинность которого вряд ли можно оспаривать, Мартин приходит к любопытным выводам о возможности существования организмов в ту эпоху, когда температура земли была еще высока и о вероятном химическом составе таких огнеупорных существ. Сравнивая организмы с прочими естественными телами, всегда необходимо иметь в виду указанное обстоятельство и сопоставлять естественные тела при температурах, соответственно удаленных от критической. Потому-то, между прочим, возможно сравнение организма с пламенем свечи, аналогия, которая всегда пользовалась успехом. 5) Естественное тело может существовать лишь до тех пор, пока внешние силы, действующие на отдельные части его, уравновешиваются связями, существующими между частями. Раз внешние силы переходят предел, тело раздробляется, испаряется, вообще перестает быть, как таковое. Меньшие силы могут вызвать натяжение связей, перемещение их, нарушить распределение частей, но по удалении воздействия тело стремится придти в прежнее состояние. Конечно, полного тождества не получается; обычно в теле можно констатировать наличность т. наз. «остаточных» изменений, более или менее бросающихся в глаза. Так, например, намагничивая кусок железа, вполне свободного от магнетизма, «девственного», по выражению физиков, посредством помещения его в индукционную спираль, а затем размагничивая пропусканием тока в обратном направлении, мы уже изменяем свойства куска. При вторичном намагничивании он потребует иного количества энергии: знак того, что в нем возникли остаточные изменения, о которых без помощи точного измерения мы не могли и предполагать. Подобные изменения, наслаиваясь на теле за все время его существования, образуют «исторический базис», по выражению Дриша. Сопоставляя различные состояния тела до, во время и после определенного воздействия на него внешней среды, мы приходим к понятию о равновесии, играющем большую роль в механике, физике и химии. Оно всецело определяет направление процессов, идущих в системе, следовательно и характер ее ответа. В упомянутых науках существует большое количество теорем, относящихся к различным частным случаям равновесия; для их формулировки прибегают к математическому учению о наибольших и наименьших величинах, в частности к вариационному исчислению. Образцом для них может служить механический принцип возможных перемещений, установленный еще Лагранжем: механическая система находится в равновесии, когда сумма возможных перемещений ее частей равна нулю. Переводя это положение на язык энергетики, мы найдем два возможных случая равновесия системы: когда ее потенциал будет максимум или минимум, причем в первом случае равновесие будет неустойчивым, во втором – устойчивым. Направление химических процессов в системе, как оно изучается термодинамикой, определяется ее вторым законом и получает сходную формулировку: процессы, идущие в системе, стремятся перевести ее в такое состояние, когда свободная энергия ее будет минимум, и наоборот энтропия – максимум. Больцман, основываясь на статистической механике и теории вероятностей, дал новую, более широкую формулировку понятия энтропии, сводя ее к «вероятному состоянию» системы, и тогда направление движений системы мы должны представить, как переход ее из менее вероятного в более вероятное состояние. Факты, лежащие в основе приведенных законов, допускают и другую более свободную формулировку; ничто не мешает говорить о «стремлении системы к самосохранению», о ее «борьбе», о «приспособлении» и «приспособляемости», последнее, если иметь в виду остаточные изменения. Физик Гильом в своей речи о «жизни материи»[20]) делает целый ряд любопытных сопоставлений в этом направлении. Если дело окончилось для системы хорошо, она не уничтожилась и продолжает благополучно существовать, действия, обнаруженные ею, можно назвать, вместе с Паули, «целесообразными» и признать в ней «аутотелеологию». По существу, дело от этого не изменится, тем более, что самые точные формулировки механики по вопросам равновесия не свободны от антропоморфических воззрений, за что ее уже не раз упрекали в «мифологии». Но именно это обстоятельство и представляет для нас большую ценность; очевидно, есть свойства, присущие всякой системе как индивидууму, и, формулируя их, трудно избежать тех выражений, которые мы привыкли применять к наиболее близким для нас системам-организмам. 6) Целый ряд явлений в организмах, описанных под именем регенерации и реституции, находит себе такие аналогии в области других систем, что позволительно считать это свойство принадлежащим всем естественным телам в большей или меньшей степени. Сущность явления заключается в том, что система после удаления части ее вещества, и связанного с этим нарушения формы, вновь принимает свойственную ей форму. При этом в одних случаях восстановление происходит путем привлечения вещества из внешнего мира, т.е. тело получает не только прежнюю форму, но и объем; в других случаях восстанавляется [так у В.К. – С.Ч.] только форма при уменьшенном объеме; система перестраивается для покрытия дефекта. Классическим примером восстановления первого рода может служить регенерация кристалла в маточном растворе. Это явление было подробно изучено многими исследователями, между прочим маститым анатомом Раубером и Пжибрамом; последний, кроме того, сделал подробную сводку всего вопроса. Восстановление формы без привлечения нового вещества обнаруживают в неорганическом мире жидкие системы: Бючли уже 10 лет назад, разбирая эксперимент Дриша над гаструлой морской звезды, указывал на аналогии с каплей жидкости. Явления регенерации в своей основе тесно связаны с устойчивым состоянием равновесия системы, о котором шла речь в предыдущем параграфе. Это есть частные и нередко более сложные случаи общего закона. Поэтому стремление выдвинуть эти явления на первый план, придать им какое-то исключительное значение для понимания организмов и их развития вряд ли можно считать особенно удачным приемом. С легкой руки В. Ру и Оскара Гертвига, привлекших эти – в сущности говоря патологические – эксперименты в область теоре- тической биологии, работы о регенерации буквально наводнили литературу. Об их количестве может составить представление всякий, кто пересмотрит сводки, делаемые Барфуртом в Ergebnisse der Anatomie за последние 15 лет. Невольно приходится вспомнить Тарда и его «Законы подражания». Но вывод из всех этих работ для общей биологии может быть только один: способность регенерации у различных животных, на различных стадиях развития и в различных органах происходит в крайне различной степени. Полная регенерация, как в знаменитых опытах Дриша, происходит сравнительно редко; эти случаи можно поместить на одном конце ряда, тогда другой конец образуют случаи полного отсутствия регенерации. Это одно уже показывает, что для объяснения регенерации требуется принимать во внимание не только общие свойства организмов, но еще в большей степени частные свойства исследуемого животного. А так как ни одно из животных, с которыми удобно экспериментировать, ни гаструлы иглокожих, ни гидроиды, ни туникаты, никем никогда, кроме морфологов, не изучались, то для детального, действительно научного анализа их потенций никаких точек опоры нет. Остается спекулировать, смотря по вкусу ученого, о «морфогенных субстанциях», или «морфогенной душе» или прямо извлечь все неизвестное и индивидуализировать его в виде энтелехии». Успеху такого рода анализа немало способствует изумление читателя перед новыми и неожиданными фактами, о которых сообщает экспериментатор, и перед которыми оба останавливаются в беспомощности. Но такое положение вещей создавалось в науке не раз, и это полезно иметь в виду. Еще недавно способность клеток «делать выбор» казалась чем-то таинственным; под свежим впечатлением новых и интересных данных легко было признать здесь специфическую витальность. Когда же физическая химия взялась за систематическое изучение вопроса об осмосе через коллоидные перепонки, открылись такие тонкие и чувствительные изменения пропускной способности пленок, что способность выбора клеток может быть учтена при помощи обычных физических и химических регуляций. Указывая на все это, я желаю лишь подчеркнуть психологический момент, играющий немалую роль в распространении научных теорий.
7) Общие черты в развитии естественных систем были так подробно указаны Спенсером, что на этом можно здесь и не останавливаться. Напомню лишь формулу Спенсера: все системы при своем развитии переходят из однородного неустойчивого состояния в разнородное устойчивое, иначе говоря, развитие идет путем интеграции и дифференциации. Нетрудно видеть в этой формуле общие черты с физическим учением о равновесии. 8) Прежде чем кончить с естественными телами, мне хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое косвенным образом указывает на общность их свойств. Это одинаковые результаты применения статистического метода, так называемой «статистики вариаций». Когда мы измерим ряд однородных проявлений индивидуумов одного и того же рода, будь то их величина, вес, быстрота возможного движения и т. д., и затем выразим результаты графически в виде кривой, то, при достаточно большом количестве измерений, получается кривая известного вида, так называемая «кривая погрешностей» или Гаусса. Мы находим такую кривую, взвешивая семена известного вида бобов, измеряя рост взрослых мужчин какой-нибудь расы, определяя быстроту, с какой решают задачу школьники 12 лет и т. д. и т. д. Очевидно, распределение той или иной способности между большим числом индивидуумов подчиняется известной законности. Но такую же в сущности кривую Максвелл положил в основу кинетической теории газов, выражая быстроту распределения скоростей между отдельными молекулами газа, и результаты его выводов, согласные с опытом, оправдывают предположение. Закономерность общественной жизни и закономерность движений молекул свидетельствуют о том, что проявление индивидуальности совершается везде однообразно. ____________________________
Мы рассмотрели те свойства естественных тел, которые можно считать общими им всем и сделали это в самой краткой и общей форме. Чтобы эти аналогии приобрели достаточную убедительность, их нужно продумать самому, дополняя конкретными примерами, что читатель, знакомый с естественными науками, произведет без особого труда. Выводы из всего приведенного напрашиваются сами собой.
Современный витализм допускает, что процессы в живых телах происходят при помощи тех же сил, которые физики и химики изучают в лабораториях, но только считает их вторичными, служебными. Теперь уже не один серьезный виталист не утверждает, что для решения частного вопроса о мышечном сокращении или проведении возбуждения по нерву не обойтись без участия жизненной силы. Специфической особенностью живых существ, полагающей глубокую пропасть между ними и мертвой природой, считается: особое направление процессов в известном месте, последовательность, с какой они вступают в действие, выбор нужного процесса, одним словом, общее руководство физическими и химическими силами, указывающее на единство организма. Но как раз в этом пункте сравнительное изучение естественных тел умеряет претензии витализма: такое общее руководство физическими и химическими процессами мы встречаем во всех естественных телах. Это свойство всякой индивидуальной системы. Везде мы находим следы организации, векторы, пограничные условия, везде система старается сохранить себя, приспособиться к изменившимся условиям, везде она трансформирует энергию особым, свойственным ей образом. Каждая система развивается, дифференцируется и умирает. Вопрос о том, как это все происходит, надо сознаться, во многом невыяснен; везде, при более глубоком анализе, мы натолкнемся на какой-то сомнительный остаток. Поэтому витализм, при желании проводить свою точку зрения во что бы то ни стало, имеет право мечтать о витализации всей «мертвой природы», на зло своим противникам, желавшим механизировать жизнь. Les extremités se touchent. Изложенная точка зрения дает возможность научной биологии спокойно работать над ее главной задачей – созданием теории организмов. Область неизвестного велика, но она не должна нас смущать; когда в науке нет полной теории капли, теории кристалла, вполне естественно, что об организме мы знаем еще меньше. С другой стороны, то положительное, что нам известно о каждом естественном теле, может послужить руководящей нитью при изучении всех остальных. Если бы потребовалось характеризовать одним словом занятую нами позицию, очевидно отличающуюся и от витализма, и от классического механизма, я назвал бы ее просто «натурализмом». VI. Проведение более детальных аналогий между организмами и другими естественными телами, как, например, приравнивание клетки к капле коллоидного раствора, не приносит никакой пользы, оно в состоянии только вызвать справедливый скептицизм и скомпрометировать все направление. Каждая система есть нечто своеобразное, и работает при помощи своих особых средств. Определяя организм per genus, как естественное тело, теория организмов исполняет только первую половину задачи, вторая, столь же необходимая, заключается в определении его per differentiam speciticam, в тех особенностях, которые свойственны исключительно живым существам. Конечно, и в этом направлении настоящая статья может только наметить вопросы и дать отдельные соображения, выражающие личное мнение автора. Старое, в значительной степени отжившее, разделение биологии на морфологию и физиологию может быть применено и здесь, как предварительный прием расчленения материала; поэтому мы приведем сначала общие данные о форме организмов, чтобы перейти затем к их функции, и на основании имеющегося материала попытаемся выяснить специфические особенности и организацию живого тела. Вступая в область живых существ, мы сталкиваемся прежде всего с громаднейшим разнообразием органических форм. Описание и каталогизирование их началось уже давно, но со времени появления теории Дарвина главные усилия морфологов были направлены на приведение организмов в генетическую связь; идеалом классификации сделалось родословное дерево. Такая классификация является, конечно, исторической, так как самое понятие родства служит для выражения определенной исторической связи. Но историческое понятие «родство» понемногу стало отождествляться с естественнонаучным понятием «сходство» на том основании, что родственники должны быть схожи между собой, и тогда возникли во множестве попытки установить родственные связи не при помощи палеонтологии, а просто путем сравнения между собой ныне живущих организмов. Сначала дело шло как будто гладко, и идеи Геккеля, главного законодателя в этой области, воспринимались с благодарностью морфологами, но более глубокая разработка частных вопросов не замедлила вызвать разочарование и сильную оппозицию «геккелизму». В настоящее время мы более чем когда-либо далеки от родословного древа, и палеонтология все чаще и чаще обнаруживаете простое сходство, «конвергенцию», там, где прежде видели родство. Палеонтолог Штейнманн настойчиво выдвигает положение Ламарка: «les races des corps vivants subsistent toutes, malgré leur variations» и недалеко, вероятно, то время, когда найдутся защитники знаменитого афоризма Линнея: «tot numeramus species, quot in initio creavit infinitum ens». Во всяком случае, теперь можно более спокойно отнестись к попытке соединить постоянство видов и эволюцию, чем, например, в 70х годах, когда такую попытку делал ботаник Виганд. Для общей теории организмов все эти споры значения не имеют; она изучает и классифицирует формы с другой точки зрения, которую в противоположность генетической можно назвать геометрической. Интересно отметить, что опыт такого изучения форм, «проморфологии», был сделан также Геккелем в «Generelle Morphologie» (1866 г.), и успеха не имел. Геккель сводил все существующие формы к определенным стереометрическим фигурам, главным образом многогранникам. Попытка рациональной классификации: была возобновлена спустя 30 лет Гааке[21]), который мечтал о рациональной систематике, когда любую форму можно будет математически вывести из основной, подобно тому как из общего уравнения конических сечений можно вывести уравнение круга, эллипса, гиперболы и параболы. Такая систематика позволит предсказать новые формы, возможные, но еще не осуществившиеся. В частности Гааке выводил все формы из шара (эллипсоид, овоид и т. д.); принимая, кроме того, во внимание распределение сходных частей, он помещал в число основных форм и многогранники, при чем этот второй ряд форм шел параллельно первому. Подобные попытки классификации форм проходились, обыкновенно, молчанием: вкусы и симпатии ученых были направлены в иную сторону, да и значение их для большинства было неясно. Можно надеяться, что в будущем, с распростране- нием понимания исторической биологии и более научной подготовки морфологов, и рациональная систематика получит дальнейшее развитие. Изучение тонкого микроскопического строения организмов, составлявшее за последние полвека главную задачу морфологии, дало возможность разделить все организмы на две основных группы: одноклеточные или простейшие и многоклеточные. В основу деления была положена элементарная морфологическая единица – клетка, в которой большинство морфологов привыкло в скором времени видеть и физиологическую единицу. И вот, наряду с обычной физиологией, которая развивалась своим путем, нисколько не заботясь о клетках, стали появляться попытки физиологического понимания сложного организма, как колонии клеток. Такое понимание вскоре натолкнулось на большие трудности: организм многоклеточных совершенно эквивалентен в физиологическом отношении организму простейшего, каким же образом колония клеток может быть эквивалентна клетке? Целый ряд ученых, в числе которых можно упомянуть ботаника Сакса, морфолога Седжвика, физиолога Шенка, стал говорить о переоценке клетки и ее значения; за последнее время особенно энергично работает в этом направлении Роде, стараясь доказать, что и с анатомической точки зрения клетки должны отступить на второй план, так как в организме синцитии преобладают над клетками. Если даже и не заходить так далеко, приходится все-таки признать, что клетки сложного организма, несмотря на морфологическое сходство с одноклеточными существами, имеют совершенно иное физиологическое значение, чем последние, – они подчинены целому, регулируются им в своих отправлениях до мельчайших подробностей, как бы теряют в целом свою индивидуальность. Мы приходим здесь к явлению, повторяющемуся во всех сложных системах: сумма единиц становится вновь единицей, целое как бы равняется части. Выяснение и углубление этого вопроса составляет одну из важных задач теории организмов, но для ее разрешения морфология и физиология должны вступить в самый тесный союз. Форма данного организма, будь то простейший или многоклеточный, постижима только исторически, на что я уже ука- зывал, но средства, помощью которых она осуществляется, доступны естествознанию. В этом отношении морфология дает нам многое. Она указывает, что всякий организм, не исключая и самых простых, представляет из себя разнородную систему; в него на ряду со специально органическими частями включены в большом количестве самостоятельные системы – кристаллические и жидкие. Достаточно рассмотреть в поляризованном свете разрез различных частей какого-нибудь позвоночного животного или любого растения, чтобы убедиться, какую роль играют в них двоякопреломляющие образования. Все растительные оболочки, соединительнотканные, мышечные, нервные волокна, хрящи и кости, большинство роговых образований анизотропны. если же мы вспомним, что не все кристаллические образования обнаруживают двоякую преломляемость, то, может быть, без большой погрешности можно считать все форменные твердые образования, находящиеся внутри, на поверхности и между клетками кристаллическими. Нас не должно смущать, что эти образования не имеют правильной формы кристалла, так как «многогранник роста», как называет эту форму кристаллография, требует для своего образования известных условий роста, которые в организме заменены другими; чтобы констатировать кристаллическую структуру достаточно векториальности. Жидкие включения являются второй составной частью организмов. Они встречаются в каждой клетке, образуя капли большей или меньшей величины, иногда, как у растений, выполняют большую часть клетки. В больших количествах жидкие массы встречаются в сосудистой системе. Все эти вторичные системы можно рассматривать как «остаточные изменения» – результат тех внешних воздействии, которым подвергался организм за время своего существования. Подобно геологическим пластам они образуют летопись тела, по которой можно читать его истории. Постепенное осаждение кристаллических систем образует все более и более усложняющийся скелет, закрепляющий достигнутую форму и служащий базисом для новых изменений. Жидкие системы в свою очередь принимают участие в определении формы организма: стремясь принять свойственную им сферическую форму, они обусловливают собой turgor vitalis. Нахождение кристаллических образований делает понятным присутствие в организмах прямых линии, плоскостей, правильных углов, как это, напр., замечается у иглокожих, т.е. всего того, что позволило Геккелю сводить часть форм организма к многогранникам. Формы, свойственные всему живому, ограничены кривыми поверхностями и, по всей вероятности, имеют исходной точкой шар, на что указывают, кроме простейших, яйцевые клетки большинства животных. Попытаемся теперь представить себе организм в возможно простом виде. Мы можем для этой цели взять за исходную точку какое-нибудь одноклеточное существо и освободить его мысленно от всех вторичных элементов, твердых и жидких включений. Произведя такую операцию, мы получим образование, более всего напоминающее голую амебу, и, действительно, с давних пор амеба считалась первичной формой жизни. Но и такой очищенный организм с морфологической точки зрения не будет однородным, так как в нем останется одно включение, никогда не отсутствующее и составляющее, очевидно, его неотъемлемую принадлежность, я разумею, ядро. Существующие ныне органические системы все являются сложными, составленными из двух систем: тела и ядра. Каким путем возник подобный состав, вопрос исторический и вряд ли разрешимый; мы не знаем даже гомологичны ли друг другу ядра различных простейших, так как ничто не указывает на их происхождение из общего корня. В этих вопросах можно только гадать и строить гипотезы; возможно, например, что обособленные ядра возникли путем соединения в одно рассеянного ядерного вещества, но также возможно предполагать симбиоз, слитие двух самостоятельных систем, из которых одна и есть ядро. Подобное предположение делали относительно хлорофильных зерен, самостоятельных систем, во многом напоминающих ядро. Мы не знаем, далее, представляет ли из себя само ядро простую или составную систему, ряд фактов, наблюдающихся при его делении, говорит скорее в пользу последнего. Но если появление ядра – историческая тайна, для биологии остается не менее важная задача: выяснить его значение в организме. Исследования мюнхенского зоолога Рихарда Гертвига и его многочисленных учеников уяснили нам в этом отношени многое. Они показали, что ядро и тело клетки представляют из себя две физиологические системы, находящиеся в тесном соотношении друг с другом и стремящиеся установить между собой известное равновесие. Целый ряд явлений клеточной жизни: рост, максимальная величина, деление, интенсивность жизнедеятельности зависят прежде всего от величины ядра сравнительно с величиной клеточного тела. Это вполне подтверждает давно уже известный факт участия ядра в процессе обмена веществ. По схеме физиолога Ферворна, все вещества, воспринятые клеткой, ассимилируются только тогда, когда они пройдут предварительно через ядро и подвергнутся в нем переработке. Позволительно ли сделать еще шаг и вообразить простейший организм как единичную систему, хотя бы в роде гипотетической безъядерной монеры Геккеля? Мне кажется – да, если не упускать из виду, что это лишь прием, могущий оказать услугу при разработке теории организма. Дойдя таким образом до конца морфологического анализа, мы встречаем организм в виде микроскопического комочка прозрачного тягучего вещества, который очень соблазнительно признать за каплю густого коллоидального раствора, гидрозоля. Решить этот вопрос, т.е. приравнять систему-организм системе-капле, – возможно, лишь изучив его организацию. Но здесь мы должны оставить на время морфологию и перейти на физиологическую почву.
VII.
В энергетическом отношении организм, как и всякое естественное тело, представляет из себя трансформатор энергии. От прочих естественных тел, встречающихся на земле, организмы отличаются: во-1-х, крупным масштабом процесса обмена энергии, во-2-х, тем, что этот процесс тесно связан с обменом вещества, так как большая часть энергии поступает в организм в виде сложных химических соединений. По вычислениям Рубнера[22]) общее количество энергии, прохо- дящей в течение всей жизни через организм, есть величина постоянная для данного вида и может служить для его характеристики. Количество энергии, проходящее в единицу времени, зависит от величины организма; так как на единицу поверхности выделяется приблизительно одинаковое количество энергии, то мелкие животные в одно и то же время пропускают через себя сравнительно больше энергии, – живут быстрее. Таким образом, по Рубнеру, количество энергии является мерилом продолжительности жизни. Исследованиями Рубнера и в особенности опытами американского ученого Атватера, поставленными в грандиозных размерах, вполне доказано подчинение организмов закону сохранения энергии. Количество энергии, теряющееся в виде тепла во время ее круговорота, достигает 20%, как в лучших машинах. Таким образом и в организмах превращение энергии сопровождается рассеянием известной части ее, т.е. организмы подчиняются второму закону термодинамики и увеличивают энтропию солнечной системы. В таком виде относятся организмы к энергии, если изучать ее обмен en bloc,. подсчитывая приход и расход, как это делают физиологи. Но более глубокий вопрос о том, как распределяется энергия внутри системы, по каким путям она идет, является еще во многом темным; в его разработке физиологии приходится идти об руку с морфологией, пользуясь ее указаниями и в свою очередь указывая ей то, чего она сама не способна увидеть. Прежде всего, мы можем разделить всю энергию, проникающую в организм, на две части. Одна, значительно большая, трансформируется и в скором времени выделяется из организма; на счет этой, так сказать проходящей, энергии организм совершает свою работу. Другая, сравнительно небольшая, равная, по Рубнеру, приблизительно 1/25 части общего количества, остается в организме и употребляется для замещения трат в самой системе и ее роста. Носителями проходящей энергии являются безазотистые части пищи: углеводы, жиры и безазотистый остаток от расщепления белков; остающаяся энергия связана главным образом с белками. Если исключить сравнительно небольшую часть энергии,
выделяющуюся из организма в виде нестройных тепловых Следы векторов выступают с полной отчетливостью в тех остаточных изменениях, которые наслаиваются на организме в течение всей его жизни, и которые под именем структурных подробностей мы изучаем в микроскоп. Концентрическая слоистость, радиальная исчерченность и различные скульптурные подробности клеточных оболочек, все волокнистые образования, встречающиеся в таком изобилии в животном организме, как-то: волокна соединительной ткани, фибрилли мышечные и нервные, палочковидные образования железистых клеток и т. д. – все эти гистологические детали указывают на известное пространственное направление химических и физических процессов, поведших к их осаждению. И если даже учитывать то обстоятельство, что кристаллическая структура волокон и оболочек предполагает свободу действия сил, присущих частям этих образований (так как система требует для своего образования свободного действия сил), то все-таки их ориентировка и некоторые особенности формы заставляют признать направляющее действие организма. Легко убедиться, далее, что в сложных организмах встречаются векторы двух категорий: одни, принадлежащие организму в целом, – по ним, например, образуются волокна сухожилия – другие, присущие элементарным составным частям системы, клеткам. Примером последних может служить система лучей, идущих от центросомы в лейкоцитах. Конечно, мы не должны ожидать, что все векторы организма будут выгравированы с такой ясностью, что их сейчас же удастся увидеть в микроскоп. Возможны остаточные изменения молекулярного порядка, быстро стирающиеся или обратимые, существование которых тем не менее является физиологическим постулатом. Такими будут, например, пути распределения проходящей энергии в клетках, у простейших, или в том мыслимо простом безъядерном организме, который мы выставили как прототип. Я знаю, что в этом пункте мы рискуем вызвать возражения морфологов. Достойно удивления, е каким упорством лучшие специалисты в этой области отказываются признать организацию в амебе и вообще в «недифференцированной протоплазме» на том основании, что не видят ее, хотя в других отношениях такого ригоризма не проявляют, что доказывают их спекуляции о невидимых жизненных единицах. Между тем, если принять во внимание даже то, что удается наблюдать, следя за амебой: ее форму, особую для каждого вида (напр., вытянутую у amoeba limax, у которой она не вполне округляется даже в покое), определенное положение сократительной вакуоли, характерную форму псевдоподии и токов внутри тела во время движения, если принять во внимание явления, происходящие в ее теле во время кариокинеза, – признание векторов и связанной с ними организации является прямо логической необходимостью. Я не говорю уже о близко родственных голым амебам формах, вырабатывающих раковину, как фораминиферы, или лучистый скелет, как солнечники, где векториальность оставляет стойкие следы, один факт движения амебы в известном направлении, указывая на переход химической энергии пищи в упорядоченное движение массы, немыслим без признания организации. На это я указывал уже несколько лет назад в статье, посвященной анализу движения амебы. Допуская, таким образом, векториальность и организацию живого существа, как такового, нам необходимо поближе выяснить их характерные особенности. Мы подходим здесь вплотную к основному для теории организма вопросу и, по временам, невольно должны вступать на зыбкую почву гипотезы. Так как деятельность организма почти целиком базируется на химических процессах, то его векторы – по крайней мере главнейшие – указывают на пути их распространения. Химический процесс протекает не только во времени, но и в пространстве; возникая в одной точке, он передается соседней и постепенно, идя от точки до точки, доходит до конечного пункта. Рассматриваемый таким образом он представляет из себя химическую волну. Физическая химия уделяет немного внимания распространению химических процессов в пространстве, и теоретически разработано, насколько мне известно, лишь распространение химических реакций в газах, в частности так называемая волна взрыва, теория которой была дана впервые проф. В.А.Михельсоном. Классическим примером химической волны в сложном организме может служить процесс проведения возбуждения по нерву. С давних пор известно образное сравнение нерва с дорожкой пороха; поджигая порох с одного конца мы получаем волну взрыва, передающуюся к другому концу, и в этом опыте видели лучшую иллюстрацию передачи нервного возбуждения. В последнее время Нернст дает точную физико-химическую теорию процесса нервного возбуждения, сводя его к движению электролитов, но и в таком виде его можно рассматривать как частный случай химической волны. Не подлежит сомнению, что научная разработка пространственного распространения химических процессов, необходима для того, чтобы поставить на твердые ноги теорию организмов. Это вопрос, который биология адресует физике и химии. Пока не получено на него точного ответа, приходится рассуждать в самом общем виде, предполагая, что законы волнообразного движения вообще применимы и к частному случаю химических волн, т.е. волей неволей пускаться в спекуляцию. Мы имеем основания, таким образом, представить простейший амебоподобный организм как арену деятельности многочисленных химических волн. Начинаясь чаще всего на поверхности, в результате внешних воздействий, они распространяются вглубь, затухают, отражаются, интерферируют. Одиночные волны, в зависимости от амплитуды их колебания, т.е. интенсивности процесса, вероятно не оставляют после себя глубоких следов; проходя раз за разом по одному направлению или образуя стоячую волну, они могут сделаться видными и для глаза. В деле обнаружения их мы должны возлагать надежды не столько на обычную гистологическую технику, сколько на более тонкие оптические методы, применимые на живом, напр., на исследовании в поляризованном или монохрома- тическом свете, на Schlieren-methode, ультрамикроскоп и т. п. Но представляется ли какая-нибудь возможность уже теперь уловить направление волн-векторов, связать их между собой, одним словом, хоть немного понять план организации простейшего существа, или эта попытка преждевременна? Мне кажется, что некоторыми данными мы располагаем, и они-то позволяют – конечно со всевозможными оговорками – высказать известные соображения. Я приведу давно знакомые факты из жизни простейших. Прежде всего явления амебоидного движения. Выросты тела, известные под именем; псевдоподии, несомненно соответствуют направлению физических и химических волн-векторов. Они отходят почти всегда перпендикулярно к поверхности тела и от любой ее точки. Проводя мысленно соответствующие векторы внутри тела, мы получим, в общем, их расположение по радиусам. Геометрическое место пересечения их образует векториальный центр. У амеб обо всем этом мы можем только догадываться, но у лейкоцитов, этих амеб сложного организма, можно воочию видеть и центр и радиально идущие от него лучи. Этот центр гистологи называют центросомой. Второй ряд фактов доставляют явления деления. Мы знаем теперь, что все простейшие делятся способом, крайне сходным с кариокинезом высших организмов. Оставляя в стороне деление ядра, указывающее, между прочим, на самостоятельность и сложность этой системы, обратим внимание на деление тела. Оно состоит в том, что в теле появляются два центра, вокруг которых и группируется вещество образующихся дочерних систем. Центры могут иметь форму зерна или пластинки, и к ним всегда идут в радиальном направлении тонкие лучи; иногда центр представляет не самостоятельное образование, а лишь точку схождения лучей. Несомненно, что центры деления простейших аналогичны центросомам высших животных, а там ясно удается видеть, как два центра образовались путем деления одного. Ученые давно уже обратили внимание на поразительное сходство лучистых фигур при кариокинезе с рисунками силовых линии в магнитном поле и строили на этом различные соображения о характере процесса. У близких к амебам солнечников тонкие радиально идущие псевдоподии заключают в себе более плотную осевую часть, своего рода скелет. Лучи скелета сходятся в центре, и, как доказал Шаудинн, при делении солнечника этот центр играет роль центросомы, а часть лучей скелета переходит в лучистые фигуры деления. Здесь, совершенно ясно, что одна и та же организация проявляет себя и в движении, и в делении. Принимая во внимание, что значительная часть потенциальной энергии, входящей в эти простые организмы, тратится на движение и деление, мне кажется возможным предположить, что в приведенных данных содержатся указания на характер ориентации, свойственной простейшим органическим системам. Мы можем ее представить в главных чертах как радиальное расположение векторов, сходящихся в один центр, т.е. свести первичную организацию к центрировке. Эта мысль не является новой, но ее не высказывали обыкновенно в общем виде, а применяли к частным случаям, как, например, Мартин Гейденгайн в своей грубо морфологической теории органических лучей. Мы встречаемся далее в морфологической литературе с представлениями о центросоме как динамическом центре сил, как центре, из которого выходит импульс движению и т. д. Они свидетельствуют о сознании важности этого образования для понимания клетки, но формулируются лишь в самых общих и неясных чертах. Преобладание радиального направления химических волн сделается нам до известной степени понятным, если мы примем в соображение сферическую форму элементарного организма и наличность раздражений внешнего мира, падающих на любую часть поверхности. Наиболее сильно должны действовать, конечно, слагающие по нормали; они будут в состоянии оставить после себя более стойкие следы, ориентировать известным образом молекулы, вообще говоря, проторить дорогу. Но подобного рода соображения относятся более к вопросу о возникновении системы, т.е. выводят нас в область истории. Для естественнонаучной теории организация есть нечто данное, непрерывно передающееся от одной системы другой по наследству. Другое дело, если бы удалось точно доказать, что радиальная организация позволяет перевести систему из одного состояния в другое кратчайшим путем, мы получили бы тогда ее полное теоретическое обоснование и могли бы заложить прочный фундамент для теории организма.
VIII.
В организме происходит постоянный круговорот вещества; отдельные системы входят в него, ассимилируются, распадаются и выходят, и, тем не менее, он сохраняет свою организацию. Как примирить это? Является ли первичная организация чем-либо стойким и неизменным? Какого характера связи, существующие между ее отдельными частями? Таковы дальнейшие вопросы, требующие внимания. Я указывал уже на разделение энергии resp. вещества, входящего в организм, на две неравные части: большую, проходящую через организм, и меньшую, остающуюся в нем. К последней категории принадлежат главным образом азотистые соединения – белки. Само собой разумеется, что остающееся вещество не только отлагается в виде тех или иных структурных особенностей, оно содержится и в той прозрачной как стекло плазме, которой мы любуемся у простейших. Совершенно естественно поэтому предположить, что субстратом химических волн являются по преимуществу легко распадающиеся и сгорающие вещества первой категории, вторые же, к которым применимо название пластических, образуют как бы остов плазмы и дают точки прикрепления для первых. Возможно, например, представить, – как это и делалось не раз, – что оба вещества в совокупности образуют сложную молекулу, при чем пластическое явится ее ядром, а к нему в виде боковых, легко отщепляющихся цепей присоединяются вещества сгорающие. Тогда опорой организации явятся пластические вещества; они будут поддерживать, и сохранять ее во время полного распадения веществ другой категории. Мы можем представить все это наглядным образом в виде следующей «модели». Вообразим себе ряд пар, танцующих мазурку и соединенных между собою в цепь таким образом, что каждый кавалер положил левую руку на плечо кавалера, находящегося впереди. В правой руке у кавалеров дамы. Весь ряд представляет из себя ряд протоплазменных молекул, лежащих по радиусу-вектору; кавалеры соответствуют пластическим ядрам молекул, дамы побочным цепям. По данному сигналу дамы одна за другой отрываются от своих кавалеров, переходят к следующему или оставляют их со- всем, и это движение перекатывается по всей цепи как химическая волна. Отдельные лица могут, оставляя свои места в цепи, соединяться в группы, соответственно микросомам или мелким зернам, всегда рассеянным в протоплазме, могут образовать самостоятельные вторичный системы, могут и совсем уходить из залы. Образовавшейся пробел заполняется соединением оставшихся. Воображая множество рядов, подобных описанному, расположенных радиально к центру залы, мы получим схему всей первичной организации в разрезе, ее легко усложнить, устанавливая связи между кавалерами соседних цепей, например, образуя из них кольца, подобный тем концентрическим кругам, которые прорезывают лучистую систему у лейкоцитов, вводя добавочные цепи и т. д. Хотя пластические вещества могут оставаться в организме долго, даже до конца его жизни, вряд ли было бы правильно представлять себе первичную организацию как нечто неизменное и стойкое. Лучистые образования при кариокинезе, которые гистологи охотно называют нитями или сократительными волоконцами, так же легко исчезают, как и образуются. Нервные фибрилли, как показывают исследования Телло, не являются стойкими образованиями и в зависимости от функций животного изменяются в числе и виде. Наконец «токи», видимые в теле амебы при, их движении, свободное перемещение в нем различных включений и ядер, прямо указывают на возможность обширных сдвижении и перегруппировок среди молекул плазмы. Ближе к действительности поэтому предположить, что в лишенных внутреннего скелета, «недифференцированных» телах, организация есть нечто лабильное, постоянно нарушающееся и восстановляющееся вновь в том виде, который более соответствует условиям момента. Это можно свободно допустить, если признать за молекулами свойство ориентироваться известным образом в зависимости от места, занимаемого ими в целом. Мы встречаем подобную ориентировку в кристаллах, но там она является стойкой, – почему в физике кристаллическое состояние и твердое состояние агрегации считаются даже синонимами, – и это обстоятельство прежде всего не позволяет проводить слишком далеких аналогий между кристаллом и организмом. Но кроме твердых кристаллов ориентировка встречается и в кристаллических каплях или жидких кристаллах Лемана, где отдельные части могут легко сдвигаться и вновь принимать прежнее направление. Последние образования, в которых поляризационный аппарат обнаруживает центрировку в виде радиального расположения оптических осей и наглядно показывает ее восстановление после деформаций, ближе всех естественных тел подходят к организмам. Весьма вероятно, что центрировка присуща всем жидким. каплям как кристаллическим, так и некристаллическим и обусловливается радиальным направлением силовых линий, что прямо вытекает из учения о поверхностном натяжении. Только в кристаллических жидкостях ее можно увидать благодаря анизотропии составных частей, отсутствующей или очень слабой в обычных жидкостях. Все это позволяет нам понять, почему между движением амебы и капли жидкости, напр., масла или ртути, замечается некоторое действительное сходство, заставлявшее ученых применять закон поверхностного натяжения к амебе. Несомненно, что сходство организации имеет глубокое значение для понимания обеих систем, но об их отождествлении, конечно, не может быть и речи. Лабильность организации служит благоприятным обстоятельством для различного рода регуляций формы: всем известна та легкость, с какой залечивают свои раны простейшие организмы. В то время как кристалл восстановляет дефект, притягивая вещество из окружающего раствора, и получает вновь прежнюю форму и объем, амеба, после потери части вещества, быстро восстановляет форму при уменьшенном объеме, как капля или жидкий кристалл. Сущность регуляции одна и та же везде: система выведена из состояния равновесия и стремится кратчайшим путем придти в новое равновесие; в какой мере это новое состояние отличается от прежнего, зависит от характера инсульта и других причин; оно может быть неотличимо на глаз от прежнего, но может повести и к образованию новой формы. Принципиально, процесс деления, который рассматривают обыкновенно как специфическую особенность живых существ, относится к категории регуляций формы и представляет ее частный случай, когда устойчивое равновесие для системы-индивидуума становится невозможным и осуществляется только в тех дочерних системах, на ко-
которые она распадается. Кажущееся самопроизвольным деление жидких кристаллов представляет большой интерес для биологии в том отношении, что оно выводит организмы из их исключительного положения и дает надежду, при сравнительном изучении обоих процессов деления, глубже проникнуть в их производящие причины. Нам остается затронуть еще один вопрос. Мы предположили, следуя установившемуся обычаю, что протоплазма состоит из молекул; какой же характер имеют связи, существующие между молекулами? можно ли их определить точнее? Я не думаю, чтобы кто-нибудь в наше время мог определенно ответить на это. Спускаясь в мир молекул, мы на каждом шагу сталкиваемся с такими явлениями, для которых старые, провизорные схемы, установленный физикой и химией, оказываются совершенно неподходящими, а новые не получили еще точной формулировки. Много лет назад Пфлюгер высказал мысль, что вся протоплазма, следовательно, весь простейший организм, представляет из себя одну гигантскую молекулу. Мысль эта представляется очень привлекательной, особенно, если сравнить ее с противоположным утверждением, по которому протоплазма есть смесь веществ; но надо сознаться, что химия до сих пор не знает подобных молекул и не может сообщить сведений об их свойствах. С различных сторон мы приходим к одному и тому же выводу, что органическая система представляет из себя нечто своеобразное: она соединяет в себе одной свойства, которые мы привыкли изучать по отдельности в различных системах, и в этом смысле ее, конечно, можно называть «автономной».
IX.
В таком, приблизительно, виде можно изобразить характерные особенности простейшего безъядерного организма, пользуясь данными современной морфологии и физиологии. Не следует забывать, что развитой в предыдущем взгляд на первичную организацию есть только общая схема; радиальное расположение векторов представляет из себя как бы канву, на которой могут вышиваться разнообразные узоры. В действительности дело обстоит не так просто уже по одному тому, что все существующие простейшие и все клетки представляют из себя двойную систему, образованную из плазмы и ядра. Поэтому к векторам, входящим в состав первичной организации плазмы, (которая является, по-видимому, доминирующей) нужно присоединить еще векторы, связывающие эту организацию с ядром. Они выступают вполне ясно только во время деления, в виде линии, связывающих хромосомы с центросомами. В некоторых случаях, по-видимому, ядро становится в. центре первичной организации, насколько можно судить по расположению лучей протоплазмы; это замечается в яйцевых клетках многих животных после их созревания. Я не могу входить здесь в подробное рассмотрение вопроса об организации самого ядра, так как это завело бы нас слишком далеко, укажу только, что, по моему мнению (высказанному в работе о кариокинезе у бобов), ядро есть сложная система, образованная из соединения систем более простых, какими я считаю не хроматиновые петли, а хроматиновые зерна или хромомеры. Эти зерна обладают способностью делиться путем перешнурования, подобно делению самого клеточного тела и, может быть, обладают такой же радиальной организацией. Я высказываю это, конечно, как простую гипотезу. В сложной многоклеточной системе появляется новая организация, подчиняющая себе первичные организации ее составных частей и служащая основой ее индивидуальности. Как переходную ступень от одноклеточных к многоклеточным мы можем рассматривать многоядерные организмы (инфузория Opalina, водоросль Caulerpa). В них мы можем предполагать наличность многих центров, судя по одновременному нахождению многих кариокинетических фигур, и в то же время по отношению к обмену энергии и движению организм проявляет единство. С другой стороны такиe организмы отличаются от многоклеточных главным образом отсутствием перегородок между отдельными составными частями, и иногда поразительно напоминают их по форме, как, напр., водоросль Caulerpa, имеющая листья и корни. Зная, что проявления организма, каков он ни будь, в сущности представляют из себя вариации на одну и ту же тему, мы в праве ожидать, что организация сложной системы построена по принципу первичной. Это значит, что в ее основе лежат векторы – пути, по которым распространяются волны энергии, только они проходят уже через отдельные системы, вплетаясь в их организацию, и связывают их между собой. Эти векторы высшего порядка группируются также в центры, центры вступают между собой в новые, более или менее сложные связи. План организации сложной системы уже в значительной степени доступен глазу, особенно там, где мы имеем дело с дифференцированной нервной системой, и в его изучении морфология делает с каждым днем блестящие успехи. Только истолковать его своими силами она, конечно, не в состоянии. На этом месте можно остановиться. Дальнейшая разработка намеченных вопросов совершенно выходит из рамок настоящей статьи, принципиальной по своему характеру, а положенные в основу ее взгляды на задачи научной биологии в вопросе о жизни, я надеюсь, достаточно уже выяснены. Их можно формулировать приблизительно так. Общая биология представляет из себя естественнонаучную дисциплину, изучающую одно из естественных тел – организм. Ее ближайшая задача создать общую теорию организма, включающую в себя как те проявления, которые общи ему с другими телами индивидуумами, так и те, которые представляют его специфические особенности. Руководящей нитью на этом пути могут служить, во-первых, понятие об организации системы, выражающее пространственное распределение энергии внутри системы в данный момент, и, во-вторых, понятие о равновесии, определяющее изменение распределения энергии, а следовательно и организации за известный промежуток времени. Естественнонаучное объяснение ответов, даваемых организмом, регуляций, регенераций, всего того, что обозначают словом жизнь, должно сводиться к установлению законов, по которым происходит изменение организации и ее переход в новое состояние равновесия; это будут как бы геометрические параллели энергетическим законам о равновесии, и формулировка их в научной теории организмов должна быть математической. Можно надеяться, что векториальный анализ, математическая дисциплина о величинах, имеющих направление в пространстве, найдет се6е здесь подходящее применение. Но если бы даже осуществилась вполне та теория организмов, которую мы считаем идеалом естественнонаучной биологии, познание организмов останется для нас неполным без знания их истории. Слияние данных теории и истории даст воз- можно полное естественноисторическое понимание живых существ, составляющее важную часть понимания природы. Здесь на короткий срок мы должны возвратиться к Риккерту и его воззрению на природу, изложенному выше. Мы пользовались его разделением наук, как исходной точкой рассуждения и взяли его взгляды целиком, без комментариев. Теперь может быть уместно внести в них небольшую поправку в том, что касается естествознания. Нельзя, на мой взгляд, считать идеалом и основной целью естественных наук выработку самых общих понятий, как-то: энергия, материя, эфир, движение или сведение мирового целого на движение элементарных однородных единиц, – делать так, значит неясно различать средство от цели. Все указанные понятия и относящиеся к ним наиболее общие законы суть лишь средства, при помощи которых мы можем наиболее точно и сжато описывать природу, символы или приемы для «технического овладевания» ею, а никак не конечная цель в познавании природы. Это недоразумение, характерное для «века естествознания», происходит от неправильного взгляда на физику и химию как на основные науки, тогда как на самом деле они в значительной своей части являются прикладными для понимания действительно существующей природы, так же как и математика. Все, что мы встречаем в природе, от электронов до млечного пути, есть тела, индивидуумы, похожие или непохожие на нас самих, малые и большие, изолированные или спаянные между собой; мы видим уничтожение одних, появление на их развалинах новых, и так без конца. Задача естествознания заключается в классификации всех известных тел, изучении их законностей и взаимных связей, а не в упразднении большинства из них. Таким образом, и естествознание имеет в конце концов дело с индивидуумами, но только изучает их с иной точки зрения, чем история. Установление точных границ и задач отдельных наук имеет гораздо больше значения, чем это может казаться научным работникам, склонным считать подобные рассуждения за схоластические тонкости. Оно одно в состоянии открыть дверь для правильной философии природы, за которую в простоте душевной очень многие в наше время считают изложение высших абстракции физики, химии и психологии, предлагаемое им под названием монизма. [1]) Разделение научного труда повело за собой, что естествознание поставило себе целью только исследование причинных отношений. Телеологический способ рассмотрения может при осторожном критическом применении и в нем также иметь большое эвристическое значение в деле исследования причины, хотя при некритическом применении может повлечь чересчур поспешные предположения... Поскольку естествоиспытатель кроме того человек и, как человек, более или менее философ, он не может вполне отрешиться от рассматривания природы с точки зрения целей, хотя это для него, как естествоиспытателя, должно быть не целью, а самое большее эвристическим принципом. Эдуард фон Гартманн. (Проблема жизни, стр. 422, 1906). [2]) Adolf Wagner. Der neue Kurs in der Biologie. Stuttgart, 1907 [3]) I. Reиnke. Naturwissenschaftliche Vorträge. Heft 4. Der Kampf der Weltanschauungen, S. 46. 1908. [4]) В настоящее время он состоит приват-доцентом в Гейдельберге. [5]) Эта и последующая цитаты взяты из книги Дриша „Vitalismus als Geschichte und als Lehre". Leipzig, 1904. [6]) Главные труды Рейнке: Einleitung in die teoretische Biologie. Berlin. 1901. Die Welt als Tat. Berlin 1899. [7]) Переводятся на русский язык под именем „Натурфилософия". СПБ. 1909. [8]) Курсив везде мой (прим. В.Карпова – С.Ч.). [9] Переведен на русский язык под названием «Творческая эволюция». [10] Жизненныя явления, общие животным и растениям. Перев. Антоновича. СПб. 1878, 1-я лекция. [11] „Но вот этот-то принцип и требуется уловить и узнать", прибавляет Клод Бернар. Знаменитый физиолог наверное не предполагал, что через какие-нибудь двадцать лет после его смерти определение Аристотеля будет выдвинуто вновь и поставлено во главу угла биологии. [12] См. напр. Allgemeine Physiologie Ферворна, „Es wird demnacli die Betrachtung der lebendigen Substanz... den Ausgangspunkt der allgemeinen Physiologie bilden miissen» (5 Autl. p. 64). [13] W. Roux. Die Enwickelungsmechanik, ein neuer Zweig der bioiogischen Wissenschaft. 1905. [14] Blumenbach. Handbuch der Naturgeschichte. Цитирую по 7 изданию. Gottingen. 1803. [15] Zeitschr. f. Ausbau der Entwick. Lehre. 1908 [16] Bachmetiew. Ueberkaltungserscheinungen bei schwimmenden Nitrotoluol-Kügelchen. Записки Имп. Акад. Наук по физ.-мат. отд. 8 серия, т. 10. №7. 1900. Bachmetiew. Biologische Analogien bei schwimmenden p. Nitrotoluol-Kügelchen. Jenaische Zeitschrift f. Naturiwssenschaft. Bd. 37. 1902. [17] Снег, иней, град, лед и ледники. 1908. [18] Rhumbler. Aus dem Lückengebiet zwischen organismischer und anorganismischer Materie. Ergebnisse d. Anat. Bd. 15. 1905. Przibram. Kristall-Analogien zur Entwicklungsmechanik der Organismen. Arch.. f. Entw. Mecbanik. Bd. 22. 1906. [19] Цитирую по журналу: Knowledge and scientific News. June 1905. [20] Archives des sciences phyisques et naturelles. T. 9. 1900. Интересные данные приводятся также в книге индуса Бозе (Bose. Response in the living et non living 1903). [21] Haacke, Grundriss der Entwkkelungsmechanik, 1897. [22] Rubner. Das Problem der Lebensdauer und seine Beziehungen zum Wachstum und Ernahrung 1908, и Kraft und Stoff im Haushalte der Natur. 1909.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||